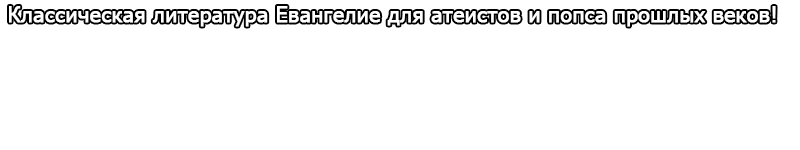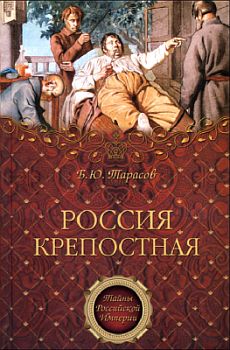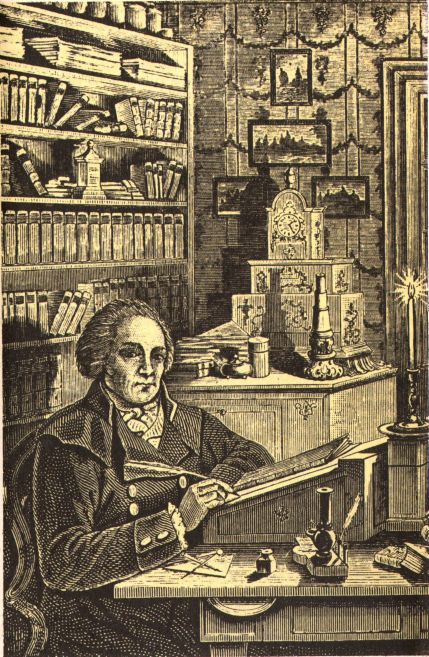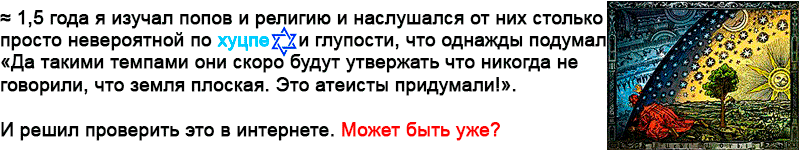ТАРАСОВ Борис Юрьевич
"РОССИЯ КРЕПОСТНАЯ. ИСТОРИЯ НАРОДНОГО РАБСТВА"
Слов в книге: 74 327
Размер html страниц отображающих стринцы (в папке html и html_autostart_mp3):
0.00151 Gb / 1.54 Mb / 1580.96 Kb / 1618908 Байт
Размер страницы со всеми главами:
0.00059 Gb / 0.61 Mb / 620.37 Kb / 635255 Байт
В папках
design,
js, и
css:
0.00014 Gb / 0.14 Mb / 146.32 Kb / 149830 Байт
Размер папки (dop) содержащей папок - 39:
0.00438 Gb / 4.48 Mb / 4588.42 Kb / 4698537 Байт
Размер всех файлов:
0.00669 Gb / 6.85 Mb / 7016.93 Kb / 7185337 Байт.
1 
Аннотация

В 1841 г. Николаем I было запрещено продавать людей в розницу.
А.И.Герцен так отозвался об истинном значении указа: "Николай хотел
ограничить продажу людей и, желая сделать добро, сделал вред; такова
обычная судьба полумер... запрещая до известной степени раздробление
семейств, он признал тем самым право продажи в других случаях и дал уже
законную основу рабовладения в России".
Николай I в 1833
г. издал Свод законов Российской империи по которым. Предписывалось
крестьянам беспрекословное подчинение своим господам. Категорический
запрет жаловаться на помещика и особенно подавать жалобы на высочайшее
имя. Дозволять крепостным вступление в брак исключительно с разрешения
господина. Право дворян телесно наказывать своих крестьян, за смерть
крепостного при наказании дворянин ответственности не нес. Крестьянские
земли и дома прямо определялись как собственность помещика. Крепостные
были лишены права владеть каким-либо недвижимым имуществом.
2 
О том, что в России существовало
крепостное право, знают все. Но что оно представляло собой на самом деле
-- сегодня не знает почти никто. Не будет преувеличением утверждать,
что после гневных обличений крепостничества А. Герценом и еще
несколькими писателями и публицистами того времени проблема была
окружена своего рода заговором умолчания, продолжающимся до сих пор.
Причина в том, что правда о двухвековом периоде народного рабства
оказывается часто слишком неудобной по разным соображениям. Авторы
академических исследований предпочитают углубляться в хозяйственные
подробности, часто оставляя без внимания социальное и нравственное
значение явления в целом; авторы учебных и научно-популярных работ
избегают освещения этой темы, предпочитая ей более героические и
патриотические сюжеты. В результате из исторической памяти общества
выпадает целая эпоха, а точнее -- формируются неверные представления о
ней, не имеющие ничего общего с действительностью. Если и вспоминают о
крепостных порядках, то непременно начинают утверждать о
"патриархальности" взаимоотношений крестьян и помещиков, совершенно
упуская из виду, что еще на момент начала крестьянской реформы 23
миллиона русских крестьян с точки зрения законов Российской империи
представляли собой полную частную собственность своих господ. И эта
"крещеная собственность" продавалась с разлучением семей, ссылалась в
Сибирь, проигрывалась в карты и, наконец, погибала под кнутами и розгами
от бесчеловечных наказаний не только до самой даты "освобождения" 19
февраля 1861 года, но в некоторых случаях еще в течение нескольких лет
после нее. А многие юридические и бытовые пережитки крепостничества
оставались в силе почти до последних дней существования империи. Сформировавшийся искаженный взгляд на
крепостную эпоху преодолеть трудно. Чтобы развеять накопившиеся за
прошедшее время недобросовестные утверждения и домыслы,
растиражированные во множестве изданий, потребуется еще немало усилий.
Но тем ценнее для достижения этой цели и восстановления истины мнения
современников и очевидцев эпохи, не просто живших при крепостном праве,
но познавших его на собственном опыте -- помещиков и их крепостных
людей. Поэтому их свидетельствам уделено особое внимание на страницах
предлагаемой вниманию читателя книги. Они, а также объективные данные
других источников, фрагменты полицейских отчетов и законодательных
постановлений, именных императорских указов, крестьянские челобитные
открывают Россию с малознакомой и непривычной стороны. Кому-то это
"закулисье" великой империи может показаться слишком неприглядным. Но
нельзя забывать, что историческая правда всегда "горчит" по сравнению с
подслащенным и отретушированным историческим мифом.
3 
Глава I. Несносное и жестокое иго
Наша матушка-старина богата, даже с
избытком, такими фактами, о которых нынешнему поколению не придет в
голову и во сне. Есть о чем написать... Русская старина, т. 27, 1879 г. Как русские крестьяне оказались в рабстве на своей земле Вступив на престол крупнейшей монархии
мира при чрезвычайно сомнительных обстоятельствах, молодая немецкая
принцесса, получившая известность под именем Екатерины Великой, чтобы
сохранить власть, а вместе с ней и свою жизнь, была вынуждена
внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит в ее
обширной державе. Поступавшая информация была крайне неутешительной, но
в ее достоверности сомневаться не приходилось, поскольку сведения
приходили из надежных источников. Так, граф П. Панин сообщал императрице:
"Господские поборы и барщинные работы не только превосходят примеры
ближайших заграничных жителей, но частенько выступают и из сносности
человеческой". Не редкостью в России второй половины
XVIII века была четырех-, пяти-, а то и шестидневная барщина. Это
значило, что всю неделю крестьянин работал на пашне помещика, а для
того, чтобы возделать свой участок, с которого он не только кормил
семью, но и платил казенные подати -- у него оставались только
воскресный день и ночи. А. Радищев передавал свой разговор с
мужиком: "Бог в помощь, -- сказал я, подошед к пахарю, который, не
останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар? В неделе-то, барин, шесть дней, а мы
шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим вставшее в
лесу сено на господский двор, коли погода хороша"... Новгородский губернатор Сивере доносил
Екатерине, что поборы помещиков со своих крепостных "превосходят всякое
вероятие". Состояние деревенских жителей современниками прямо
характеризовалось как рабство. Иностранные путешественники, побывавшие в
России во времена правления Екатерины, оставили записки, полные
изумления и ужаса от увиденного. "Какие предосторожности не принимал
я, -- писал один французский мемуарист, -- чтобы не быть свидетелем этих
истязаний, -- они так часты, так обычны в деревнях, что невозможно не
слышать сплошь и рядом криков несчастных жертв бесчеловечного произвола.
Эти крики преследовали меня даже во сне. Сколько раз я проклинал мое
знание русского языка, когда слышал, как отдавали приказы о наказаниях". Без пощечин и зуботычин дворовым слугам
не обходилось практически ни в одном господском доме. И отличия можно
было найти только в том, как писал один современник, что "наказания
рабов изменяются сообразно с расположением духа и характером господина".
Где-то барыня предпочитает бить наотмашь башмаком по лицу крепостных
девушек, ставя их перед собой в ряд; в другом месте высекли разом 80
служанок за невыполнение работы в срок. По свидетельству известной
княгини Е.Р. Дашковой, фельдмаршал граф Каменский в присутствии ее лакея
так избил двоих крестьян, что проломил им обоим головы о печку. Писатель Терпигорев вспоминал о своем
дедушке-помещике, которого прозвали "дантистом" за редкое умение одним
ударом выбивать дворовым слугам зубы в минуту барского гнева, а то и
шутки ради. Примечательно, что этот господин выделялся из ряда себе
подобных не фактом битья своих рабов -- так поступали почти все, а
только необычайной ловкостью битья, которой добродушно удивлялись
соседи-рабовладельцы. Наконец в декабре 1762 года императрице
была подана жалоба от 40 крепостных людей Дарьи Салтыковой. Они заявляли
о чудовищных злодеяниях своей госпожи и обращали внимание правительницы
на то, что Юстиц-коллегия, вместо проведения расследования, помещицу не
допрашивает, будто бы по ее болезни, а между тем она вполне здорова и
по-прежнему мучает своих слуг. При этом сами челобитчики арестованы и
содержатся под караулом. Дело Салтычихи на общем фоне
безнаказанности и злоупотреблений действительно выделялось особой
жестокостью, дававшей основания сомневаться в душевном здоровье
помещицы. Так, дворовую свою Максимову она
собственноручно била скалкой по голове, жгла волосы лучиной. Девок
Герасимову, Артамонову, Осипову и вместе с ними 12-летнюю девочку
Прасковью Никитину госпожа велела конюхам сечь розгами, а после того
едва стоявших на ногах женщин заставила мыть полы. Недовольная их
работой, она снова била их палкой. Когда Авдотья Артамонова от этих
побоев упала, то Салтыкова велела вынести ее вон и поставить в саду в
одной рубахе был октябрь). Затем помещица сама вышла в сад и здесь
продолжала избивать Артамонову, а потом приказала отнести ее в сени и
прислонить к углу. Там девушка упала и больше не поднималась. Она была
мертва. Агафью Нефедову Салтычиха била головой об стену, а жене своего
конюха размозжила череп железным утюгом. Дворовую Прасковью Ларионову забили на
глазах помещицы, которая на каждый стон жертвы поминутно выкрикивала:
"Бейте до смерти"! Когда Ларионова умерла, по приказу Салтычихи ее тело
повезли хоронить в подмосковное село, а на грудь убитой положили ее
грудного младенца, который замерз по дороге на трупе матери... Однако господа сенаторы колебались. Не
хотели огласки недостойного поведения дворянки, боялись реакции
дворянства на неизбежное осуждение помещицы. Предлагалось вместо
разбирательства убийств в доме Салтычихи -- выпороть хорошенько самих
ходоков. Причем выяснилось, что указанная челобитная от дворовых
Салтыковой далеко не первая. И прежде с теми крестьянами, кто доходил до
столицы в поисках справедливости, так и поступали -- били кнутом и
возвращали госпоже на расправу, или ссылали в Сибирь. Но Екатерина решила все же принять
челобитную и повелела начать расследование. Тем, кто хорошо знал
императрицу, было очевидно, что за естественным для монарха стремлением к
защите слабых и восстановлению справедливости на самом деле скрывается
прагматический расчет. В народе зрело яростное возмущение против
сложившейся в государстве системы угнетения. Наказание Салтычихи должно
было стать показательным процессом, предостеречь владельцев крепостных
"душ" и продемонстрировать народу заботу правительства о его положении. Оставшиеся в живых к началу следствия
крепостные слуги Дарьи Салтыковой обвиняли свою госпожу в гибели 75
человек. Чиновники Юстиц-коллегии нашли возможным приписать ей только 38
убийств и в 26 случаях оставили "в подозрении". Преступницу приговорили
выставить на один час к позорному столбу с вывеской на груди
"мучительница и душегубица", а затем заключить в оковы и отвезти в
женский монастырь, где содержать до смерти в специально для того
устроенной подземной камере без доступа дневного света. Зверства Салтычихи слишком часто
использовались разными авторами для живописания ужасов крепостного быта.
На короткое время ее имя стало едва ли не символом всей эпохи
существования крепостного права. Но впоследствии навязчивое смакование
ее преступлений привело, напротив, к маргинализации образа этой
помещицы, представлению о совершенных ею злодеяниях, как о страшном
исключении из патриархальных и добрых взаимоотношений между господами и
их крепостными слугами. В действительности Дарью Салтыкову, хотя
и можно с полным правом назвать настоящим "извергом рода
человеческого", но при этом ни в коей мере нельзя считать изгоем из
среды русского дворянства того времени. Напротив, от нее тянутся
множество нитей к известнейшим фамилиям московской и петербургской
знати. Салтычиха состояла в близком родстве с Дмитриевыми-Мамоновыми,
Муравьевыми, Строгановыми, Головиными, Толстыми, Тютчевыми,
Мусиными-Пушкиными, Татищевыми, Нарышкиными, князьями Шаховскими,
Голицыными, Козловскими... И эта связь не была формальной. Знатные
родственники не однажды выручали преступницу своим влиятельным
заступничеством. Достаточно сказать, что следствие о совершенных
кровожадной помещицей преступлениях начиналось 21 раз! И всегда
прекращалось без всяких последствий и вреда для убийцы. По свидетельству
очевидцев, оглядев истерзанное после пыток тело дворовой женщины
Прасковьи Ларионовой, Салтыкова обратилась к окружавшим ее в молчании
слугам не то с торжеством, не то с угрозой: "Никто ничего сделать мне не
может!". В поместьях соседей и родственников
Салтыковой творились часто не меньшие злодеяния, а об извращенном
садизме княгини Козловской было широко известно в том числе и при
императорском дворе. Насилие над зависимыми людьми стало нормой в России
XVIII столетия, и "благородные" насильники чувствовали себя совершенно
безнаказанными. Показательное осуждение Салтычихи ничего
не изменило и не могло изменить в нравах поместного дворянства. Сама
Екатерина вскоре отступилась от намерений хоть в чем-то смягчить участь
крепостных. Она справедливо опасалась задевать интересы помещиков,
составлявших практически единственную опору все еще слишком шаткого
трона. В ответ на новые обращения крестьян,
искавших защиты правительства от жестокости помещиков, вышел
императорский указ, запрещавший подобные жалобы раз и навсегда. Указ
гласил, что "которые люди и крестьяне в должном у помещиков своих
послушании не останутся и недозволенные на помещиков своих челобитные, а
наипаче ее императорскому величеству в собственные руки подавать
отважатся, то как челобитчики, так и сочинители наказаны будут кнутом и
прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск..." Таким образом, сама государственная
власть утверждала в обществе и, в первую очередь, в среде дворянства,
отношение к крепостному крестьянину, как к личной собственности хозяина.
И не просто утверждала, но и защищала в практической жизни с помощью
законодательства и военной силы. В.О. Ключевский писал по этому поводу,
что в российской империи "образовался худший вид крепостной неволи,
какой знала Европа, -- прикрепление не к земле, как было на Западе, даже
не к состоянию, как было у нас в эпоху Уложения, а к лицу владельца,
т. е. к чистому произволу". Но как могло случиться, что граждане
одной страны были самим государством поставлены в такие извращенные и
несправедливые взаимные отношения, когда одни оказались бесправной
собственностью других? Этот вопрос приводил в недоумение многих
еще в пору расцвета крепостного права. "Нельзя не заметить с особенным
удивлением участи, которую в последствии веков имел простой народ
русский, -- писал Н. Тургенев в 1819 году. -- В европейских государствах
существовавшее там рабство произошло от завоевания. Варвары нагрянули
на Европу, воспользовались правом победителей и из побежденных сделали
рабов. Напротив того, в России народ русский сверг с себя постыдное и
долго томившее его иго татарское, и при том случилось, что побежденные,
т. е. татары, остались свободными, и многие из них вступили в сословие
дворян, а большая часть победителей, т. е. большая часть коренного
народа русского, была порабощена". От начала своей истории и почти до
времени Соборного Уложения 1649 года абсолютное большинство населения в
России было лично свободным, могло выбирать род деятельности по своему
усмотрению, но, конечно, исходя из тех или иных объективных
возможностей. Существовали и несвободные люди, холопы. Холопство
делилось на несколько видов, но, за редкими исключениями, вроде плена на
войне, формировалось также за счет свободных граждан, добровольно
дававших на себя кабалу за материальное вознаграждение со стороны
будущего владельца, на определенных, договорных и взаимообязательных для
господина и холопа условиях. Таким образом, холоп был огражден от
произвола хозяина действовавшими юридическими нормами, и в этом его
принципиальное отличие от будущего бесправного крепостного раба.
Холопство часто было выгодным и удобным способом ухода от
государственных обязанностей под покровительство влиятельного частного
лица. Государев служилый человек, дворянин,
имел право на свое казенное поместье до тех пор, пока воевал на границах
государства "конно, людно и оружно". Если он по каким-либо причинам
прекращал нести свою службу, он выбывал из своего сословия, лишался
поместья и был волен заниматься чем угодно, если не подлежал уголовному
преследованию, -- открыть ли торговлю, похолопиться к знатному боярину в
боевые слуги, или пойти "во крестьяне". Источники XVI и XVII веков
полны подобными жизнеописаниями, когда и оскудевшие вконец князья
Рюриковичи служили дьячками, нанимались на пашню или вовсе скитались
"меж двор". Военная ли служба, торговое ли дело,
хлебопашество ли, как и любой другой вид деятельности, -- все это было
исключительно родом занятий, а не социально-безвыходным состоянием для
свободного лично человека. Так, русский крестьянин, вплоть до середины
XVII века, представляет собой, по крайней мере юридически, вольного
арендатора дворцовой или помещичьей земли, хотя и стесненного уже к тому
времени множеством законных и незаконных обязательств и условий. Но
личной свободы он еще не потерял. Тексты крестьянских порядных записей
20--30-х годов XVII века свидетельствуют о том, что еще в это время
древнее право выхода сохранялось вполне. В порядных оговариваются только
условия, на которых крестьянин мог покинуть землю помещика. Однако дворянство все настойчивее
требует отмены крестьянского выхода. Урочные лета -- время, в течение
которого помещик мог заявить о своих беглых крестьянах и вернуть их
обратно, -- с пяти лет очень быстро растягиваются до пятнадцати. Наконец, Соборное Уложение, состоявшееся
в 1649 году при царе Алексее Романове, среди прочего предписало
возвращать беглых крестьян, записанных за тем или иным землевладельцем
по писцовым книгам, составленным в 1620-х годах, "без урочных лет".
Иными словами, данным постановлением раз и навсегда отменялись всякие
ограничения исковой давности о беглецах. Эта мера закона
распространялась и на будущее время. Соборное Уложение 1649 года содержит,
кроме отмены "урочных лет", целый ряд статей, приближающих прежде
свободного земледельца к барщинному холопу. Его хозяйство все
решительнее признается собственностью господина. В прежнее время закон
мог и при определенных обстоятельствах ограничивал право выхода только
одного тяглеца, владельца двора, лично ответственного за внесение
податей, при этом его домочадцы, дети и племяшшки могли беспрепятственно
уходить куда угодно. Теперь выдаче помещику подлежало все семейство, и
те младшие и дальние родственники, кто не был учтен в писцовых книгах,
со всем хозяйством, заведенным в бегах. Здесь же, хотя еще и неясно и не
вполне уверенно, но проскальзывает взгляд на крестьянина, как на личную
собственность господина, утвердившийся впоследствии. Уложение велит
выданную в бегах замуж крестьянскую дочь возвращать владельцу ее вместе с
мужем, а если у мужа были дети от первой жены, их предписывалось
оставить у его прежнего помещика. Так допускалось уже разделение семей,
отделение детей от родителей. Еще одним ущемлением правоспособности
закрепощенного мужика было возложение на помещика обязанности отвечать
за податную способность своих крестьян, ведь они, переходя в
распоряжение землевладельца, оставались государственными тяглецами. И все-таки законодатели собора 1649 года
еще видели в закрепощенном крестьянине подданного государства, а не
рабочую скотину. Некоторые права его как личности, не задевавшие
интересов государства, сохранялись и защищались. Крепостной не мог быть
обезземелен по воле господина и превращен в дворового; он имел
возможность приносить жалобу в суд на несправедливые поборы; закон даже
грозил наказанием помещику, от побоев которого мог умереть крестьянин, а
семья жертвы получала компенсацию из имущества обидчика. Разница в правовом положении крепостного
крестьянина середины XVII века и его совершенно бесправных внуков и
правнуков, которым предстояло жить в XVIII столетии, значительна. Но
именно Уложение 1649 года содержит в себе ростки будущих злоупотреблений
помещичьей властью. Они состояли в том, что ни одним словом и даже
намеком законодатели не определяли норм хозяйственных взаимоотношений
помещика и его крестьян -- ни вида, ни размеров повинностей, оставляя
все исключительно на усмотрение господина. Не разъяснялось также,
насколько крестьянин может считаться собственником своего личного
имущества, или оно целиком принадлежит помещику. Подобные умолчания, эта, по выражению
историка XIX века, "либо недоглядка, либо малодушная уступка небрежного
законодательства интересам дворянства" привели к тому, что "благородное"
сословие воспользовалось удобным случаем и истолковало все неясности в
свою пользу. Правление Петра I положило конец любым
сомнениям и неясностям. Император нуждался в рабочей силе, и
эксплуатация крестьянского труда при нем приобрела невиданно жестокий
характер. Причем настолько, что даже современные историки, утверждающие в
общем необходимость и пользу петровских преобразований, вынуждены
признавать, что деятельность державного реформатора для народа
обернулась "усилением архаичных форм самого дикого рабства". Крепостные служили в армии солдатами,
кормили армию своим трудом на пашне, обслуживали возникавшие заводы и
фабрики. Практически единственной производящей силой в стране,
обеспечивавшей и жизнедеятельность государства и сами преобразования, --
был труд миллионов крепостных крестьян. Но кроме этого именно при Петре
утверждается практика дарения христианских "душ" в качестве награды --
любимцам, сподвижникам, союзникам и родственникам. Император лично раздал из казенного
фонда в частное владение около полумиллиона крестьян обоего пола. Так,
грузинский царь Арчил стал по милости Петра обладателем трех с половиной
тысяч дворов, населенных русскими крестьянами. Вместе с ним живые
подарки людьми из рук правителя России получили молдавский господарь
Кантемир, кавказские князья Дадиановы и Багратиони, генерал-фельдмаршал
Шереметев. Один только светлейший князь Меншиков стал владельцем более
чем ста тысяч "душ". Именно с этих пор русские крестьяне
становятся живым товаром, которым торгуют на рынках. Торговля приобрела
такой широкий размах, что сам император попробовал было вмешаться и
прекратить розничную торговлю людьми, словно рабочим скотом, на
площадях, "чего во всем свете не водится", как он говорил сенаторам. Но
вполне представляя себе негативную реакцию дворянства, особенно
мелкопоместного, в среде которого практиковалась в основном розничная
продажа крепостных, обычно непреклонный реформатор отступил. Он
обратился в Сенат всего лишь с пожеланием "оную продажу людей пресечь, а
ежели невозможно будет того вовсе пресечь, то бы хотя по нужде
продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь". Такая удивительная робость правительства
перед дворянством привела к тому, что продажа людей в розницу, с
разделением семей, разлучением маленьких детей с родителями и мужей с
женами продолжалась в России почти до самой отмены крепостного права во
второй половине XIX века! Вообще история крепостного права в
России полна примеров, которых действительно "во всем свете" никогда не
водилось. Так, например, супруга Петра Великого, Екатерина I, урожденная
Марта Скавронская, была по своему происхождению крепостной крестьянкой
лифляндского помещика. Кроме того, семья венчанной российской
императрицы, ее братья, сестры и племянники оставались в крепостной
зависимости вплоть до 1726 года... Боевая подруга Петра, оказавшись на
троне, предпочитала не вспоминать о своих родственниках. Однако наиболее
беспокойная из них, сестра Екатерины Алексеевны, Христина, не
постеснялась напомнить о себе. Она сумела попасть на прием к рижскому
губернатору Репнину с жалобой на притеснения от своего помещика и затем
объявила о родстве с императрицей. На недоуменный запрос растерянного
чиновника Екатерина, сама еще толком не зная, как поступить, приказала
"содержать упомянутую женщину и семейство ея в скромном месте". В целях
избежания огласки из усадьбы помещика царскую родню предписывалось
изъять под видом "жестокого караула" и шляхтичу объявить, что они взяты
"за некоторыя непристойныя слова...", а потом приставить к ним
поверенную особу, которая могла бы их удерживать от пустых рассказов. Вскоре при дворе в Петербурге появилось
множество новых лиц -- братья и сестры императрицы со своими женами,
мужьями и детьми. Они были грубы и невоспитанны, но, учитывая простоту
нравов императорского дворца при Петре и Екатерине, скоро освоились в
столице. Им были пожалованы графские титулы, деньги, обширные имения и
тысячи крепостных "душ". Как и полагается большим господам, у
каждого из этих новых аристократов появились свои барские причуды.
Например, племянник императрицы, граф Скавронский, любил искусство и
считал себя обладателем изысканного вкуса. Поэтому требовал, чтобы вся
многочисленная прислуга в его дворце разговаривала исключительно
речитативом. Того, кто ненароком сбивался и тем оскорблял слух
господина, жестоко пороли на конюшне. Но в то же самое время, случись
лифляндскому шляхтичу подать иск о возвращении своих беглых крепостных,
Скавронских, и, по справедливости, его следовало удовлетворить,
поскольку помещик не получил даже ничтожной компенсации при тайном
вывозе родственников императрицы из его имения. Тогда сиятельным графам
Скавронским пришлось бы вновь одеть подобающее им крестьянское платье и
терпеть фантазии уже своего господина. А благосостояние шляхтича при
этом могло, мягко говоря, значительно возрасти, потому что закон
предписывал возвращать беглого крестьянина помещику со всем имуществом,
нажитым в бегах... Правда, подобный иск так никогда и не
был подан. Зато при дворе постоянно увеличивалось число безродных и
безвестных прежде людей, фаворитов и временщиков, наложников и наложниц,
удачно попадавших, как говорили тогда, "в случай" и в одночасье
становившихся вельможами и богачами. За собой они вели свою родню,
немедленно возводимую в графское и княжеское достоинство. Так из
закройщиков и ткачей, лакеев и брадобреев выходили аристократические
фамилии Гендриковых, Закревских, Дараганов, Будлянских, Кутайсовых и
многих других. Простой малороссийский казачок,
знаменитый впоследствии Алексей Разумовский, попавший "в случай" к
Елизавете Петровне и ставший ее тайным супругом, был пожалован ста
тысячами "душ". Дворянство и поместья получили все его родственники, а
младший брат, Кирилл, в возрасте 18 лет возглавил Академию наук, а через
четыре года стал гетманом Малороссии. Но существовали и другие пути для того,
чтобы войти в ряды российского "благородного шляхетства". Для этого
достаточно было получить на службе самый низший чин, соответствовавший
14-му классу Табели о рангах, введенной Петром I. Вместе с выслуженным
"благородством" тысячи новых дворян получили право владеть и
распоряжаться судьбой своих бесправных соотечественников. Человеческие
качества новых рабовладельцев, поднявшихся нередко с самого социального
дна, были не слишком высокими. Александр Радищев приводит замечательный портрет такого господина. "В губернии нашей жил один дворянин,
который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список.
Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камер-лакеем,
потом мундшенком,[1] какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя
службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего
издыхания... Чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и
награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место,
где родился... Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой
поселился с немалою своею семьею. Г. асессор произошел из самого низкого
состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие
вскружило ему голову... Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от
природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Если
который казался ему ленив, то сек розгами, плетьми, батожьем или
кошками,[2] но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку... Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были
ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом,
чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать... Плетьми или
кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы
таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по
деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая
не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над
прядильницами, из которых они многих изувечили..." Как видно, обращение с крепостными
слугами в маленьком поместье бывшего лакея и в большом доме аристократки
Салтыковой, а также ее знатных родственников практически одинаково. В построенной при Петре и его преемниках
государственной системе только верная служба строю и династии давала
знатность, богатство и привилегии. И главной привилегией была
безнаказанность в отношении к зависимым людям. Без различия происхождения и родовая
знать, и безродные выслуженнюси по Табели -- вместе составили сословие
государственных бюрократов, в полной собственности у которых, а в
действительности -- в совершенном рабстве, оказались миллионы русских
крестьян. К середине XVIII столетия почти три четверти всего податного
населения Российской империи, около 73 % по данным второй ревизии, было
отдано правительством "в хозяйственное и судебно-полицейское
распоряжение частных лиц", -- отмечал В. Ключевский. Закон не только разрешал телесные
наказания, но предоставлял помещику самостоятельно определять степень
наказания крепостных, что фактически было равнозначно праву смертной
казни своих слуг. Это подтверждает французский аббат Шапп,
познакомившийся с бытом крепостной России в 1761 году. Он писал о том,
что дворяне подвергают крепостных наказанию плетьми или батогами с такой
жестокостью, что "на деле получают возможность казнить их смертью". Владелец поместья чувствовал себя
полновластным государем, самодержавным правителем, чья воля оказывалась
законом для его "подданных". Единственное, что мешало помещику вполне
насладиться своим положением, была обязательная государственная служба. Правительство, заинтересованное в
симпатиях дворянства, из года в год и от указа к указу последовательно
освобождает "шляхетство" от этого гнета. Если при Петре I дворянская
служба была пожизненной, то Анна Иоанновна повелевает ограничить ее
двадцатью пятью годами, причем помещики, у которых было двое и более
сыновей, получали возможность одного из них оставлять для управления
хозяйством. Кроме этого изобретательные господа стали записывать своих
детей в полковые реестры с колыбели, что приводило к тому, что,
достигнув призывного возраста, дворянскому недорослю оставалось
отслужить всего несколько лет, и, конечно, в офицерском чине. Наконец, Манифестом "о вольности
дворянской" 1762 года дворянство совершенно освобождается от
необходимости службы и каких-либо других обязанностей с сохранением всех
своих прав и преимуществ. Андрей Болотов, известный мемуарист и
современник тех событий, оставил описание реакции "благородного"
сословия на дарованные Манифестом милости: "Не могу изобразить, какое
неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян
нашего любезнаго отечества; все почти вспрыгались от радости..." Одновременно крестьяне, наоборот, теряли
всякие признаки правоспособности, превращаясь в одушевленный рабочий
инвентарь имения. В1741 году вступление на престол дочери Петра,
императрицы Елизаветы, сопровождалось обнародованием указа об
отстранении крепостных крестьян от присяги российским самодержцам. Без
разрешения помещика они не могли вступать в брак и женить своих детей,
покинуть усадьбу и даже постричься в монахи. Очередной указ лишил
крепостных права владеть какой-либо недвижимой собственностью. Подобное законодательство и практика его
воплощения в дворянских имениях, естественно, приводили к бунтам.
Подсчитав однажды расходы от необходимости вооруженного подавления
многочисленных народных волнений, пришли к остроумному решению
взыскивать эти убытки с самих крестьян. В императорском указе сказано
так: "Ежели впредь последует какая от крестьян помещикам непокорность, и
посланы будут воинские команды, то сверх подлежащего по указам за вины
их наказания дабы чувствительнее им было, взыскивать с них и причиненные по причине их непослушания казенные убытки". Этот закон, так же как и большинство
других, не просто ущемлявших, но глумившимися над правами и достоинством
крепостных крестьян, был издан в начале правления Екатерины II, в 1763
году. Историки назовут ее царствование великим, а саму правительницу --
гуманной и просвещенной. Называют так и до сих пор. Впрочем, она действительно была автором
нескольких проектов законов, назначенных к смягчению крепостных
порядков. В 1765 году при поддержке правительницы несколько самых
близких к ней людей создают так называемое Вольное экономическое
общество. Учредителями Общества выступали фаворит Екатерины Григорий
Орлов, графы Воронцов и Чернышев, а также статс-секретарь императрицы и
владелец нескольких тысяч "душ" Адам Олсуфьев. Целью Общества объявили изыскивание
средств к "приращению народного благосостояния". Новая организация сразу
же объявляет конкурс на лучшее сочинение об изменении участи крестьян.
Причем любопытно, что награды в результате было удостоено сочинение,
показавшееся отцам-учредителям одновременно столь вольнодумным, что его
не сочли возможным напечатать... Вскоре после этого начинает работу так
называемая Уложенная Комиссия, задачей которой было наведение порядка в
своде государственных законов. Законодательство, обогатившееся за сто с
лишним лет, прошедших со времен Соборного Уложения царя Алексея
Михайловича, множеством юридических актов, нередко противоречивых друг
другу, действительно нуждалось в исправлении. Но придворных
консерваторов тревожило содержание статей Наказа императрицы Екатерины
для Уложенной Комиссии. Там самодержавная правительница прямо заявляла о
необходимости защитить права крепостных крестьян на имущество и личную
жизнь, в том числе их право жениться и выходить замуж без вмешательства
помещика. Распространились слухи, будто в
окружении молодой императрицы обсуждаются проекты не только облегчения
участи крестьян, но даже их скорого освобождения. Впрочем, паника скоро
улеглась. Ни одно из благих намерений Екатерины II в отношении
помещичьих крестьян так и не обрело никогда юридической силы. "Долгое царствование императрицы
Екатерины II замечательно внутренними преобразованиями", -- восклицают
один за другим авторы книг об этой эпохе и тут же глухо оговариваются,
что "однако для крепостных крестьян государыне не удалось ничего
сделать, и положение их в это время сделалось еще более тяжелым..."
Красноречиво звучит и вынужденное объективными фактами признание
историка П. Полевого, что "преобразования Екатерины менее всего
коснулись крестьянского сословия". Но ведь это обделенное вниманием
правительства сословие составляло абсолютное большинство народа. Кому же
тогда были нужны другие преобразования правительницы? Приход Екатерины к власти летом 1762
года после дворцового переворота сопровождался щедрой раздачей наград
для приближенных. В "Санкт-Петербургских ведомостях" от 9 августа 1762
года сообщалось, что за "сокровенное усердие и ревность для поспешения
благополучия народного" императорское величество соизволила наградить:
"Камергеру Григорью Орлову -- 800 душ; Евграфу Черткову -- 800 душ;
графу Валентину Мусину-Пушкину -- 600 душ; порутчику Василью Бибикову --
600 душ; подпорутчику Григорью Потемкину -- 400 душ; да Федора и
Григорья Волковых -- в дворяне и обоим 700 душ; да Алексея Евреинова -- в
дворянеж и ему 300 душ; гардеробмейстеру Василью Шкурину с женою --
1000 душ..." Тогда в один дет 26 особенно
отличившихся и близких к новой императрице Людей получили в свою
собственность восемнадцать тысяч крепостных. А всего за время правления
Екатерины помещикам было подарено более 800 тысяч "душ". Крестьяне щедро
жаловались "за победу, за удачное окончание компании генералам или
просто "для увеселения", на крест или зубок новорожденному. Каждое
важное событие при дворе, дворцовый переворот, каждый подвиг русского
оружия сопровождался превращением тысяч крестьян в частную
собственность", -- писал В.О. Ключевский. Крепостное право, как оно сложилось ко
второй половине XVII века, превратилось в серьезнейшую государственную
проблему. Оно начинало угрожать не только внутренней безопасности
империи, когда постоянные мятежи и восстания привели наконец к
беспримерной по размаху и жестокости крестьянской войне под руководством
Пугачева. Главной опасностью стало развращающее влияние крепостничества
на общественные нравы. Слишком ясно поняла это сама Екатерина,
когда в ответ на ее предложения к членам Уложенной Комиссии хотя бы
несколько смягчить бесправное состояние крепостных раздались требования
прямо противоположного свойства, причем от депутатов разных сословий. Исключительное право дворянства на
распоряжение "душами" соотечественников вызывало зависть
непривелигированных, но лично свободных слоев населения. Потому купцы,
мещане, казачья старшина и даже духовенство, представленные в Уложенной
Комиссии уполномоченными делегатами, заявили о своем непременном желании
получить право владения крепостными рабами. Екатерина была раздражена: "Если
крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек, то
его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от
всего света нам приписано будет", -- записала она вскоре после очередной
встречи с депутатами. Раздражение и беспокойство правительницы
были совершенно оправданны. Екатерина оказывалась свидетельницей
социального недуга, угрожавшего разрушить государство, которое она
мечтала передать своим внукам. Но остановить роковое развитие болезни
она уже не могла.
4 
Глава II. Крестьянская доля -- весь век неволя
Споем песню мы, ребята, Да про наше про житье, Да про горюшко свое: Что в неволе все живем, Крепостными век слывем... Из народных песен Повинности и обязанности крепостных крестьян О социально-экономическом устройстве
Российской империи написано немало ученых работ. Благодаря дотошности
исследователей наука обогатилась полезными знаниями о хозяйственной
жизни того времени, такими, например, как размеры средней крестьянской
запашки и особенности севооборота в разных губерниях. Но множество этих и
других хозяйственных подробностей не в состоянии передать духа эпохи,
без чего все отдельные и даже самые важные данные делаются бессмысленным
набором цифр. О том, что же представляла собой Россия
XVIII -- середины XIX века, что было целью тяжелых жертв, принесенных
народом "на алтарь отечества", -- без устали спорят профессионалы и
дилетанты, почвенники и западники. Тем примечательнее объективное
свидетельство современника. В своей книге, посвященной истории
рязанского дворянства, председатель губернской археографической комиссии
А.Д. Повалишин замечательно точно характеризует период господства
крепостного права: "Все в сущности клонилось к тому, чтобы дать помещику средства для жизни, приличной благородному дворянину". Несколько сотен тысяч "благородных"
российских помещиков по воле правительства стали олицетворять собой и
государство, и нацию. В то же время миллионы ревизских душ в России
именовались не иначе как "хамами" и "хамками", "подлыми людьми". А
понятие "народ" в его действительном возвышенном смысле встречалось
только в поэтических сочинениях, обращенных к далекому прошлому. Исключительное положение господ
окончательно было закреплено в "Жалованной грамоте дворянству", данной
Екатериной II в 1785 году. Текст "грамоты" полон перечислением
дворянских привилегий и прав. Но более всего этот документ примечателен
своими умолчаниями. И главное из них -- совершенное неупоминание в
тексте о крепостных людях. Это умолчание несло в себе страшное значение
-- оно окончательно превращало живых русских крестьян в простую
материальную часть помещичьей собственности. Как и следует в
рабовладельческом обществе, весь смысл жизни крепостного человека, его
предназначение состояли теперь исключительно в обеспечении своего
господина и удовлетворении любых его потребностей. Подневольное население обычной
помещичьей усадьбы оказывалось довольно пестрым, и каждый имел в ней
свои обязанности. Но наиболее многочисленными обитателями любого
поместья были, конечно, крестьяне. Круг крестьянских повинностей был
чрезвычайно широк и никогда не ограничивался работой на пашне. По
приказу из господской конторы крепостные должны были выполнять любые
строительные работы, вносить подати натуральными продуктами, трудиться
на заводах и фабриках, устроенных их помещиком, или вовсе навсегда
покидать родные края и отправляться в дальний путь, если господин решил
заселить благоприобретенные им земли в других губерниях. По словам Ивана Посошкова, автора одного
из первых русских экономических трактатов "Книги о скудости и
богатстве", помещики в своей хозяйственной деятельности
руководствовались простым правилом: "Крестьянину-де не давай обрасти, но
стриги его яко овцу догола". Одним из основных способов извлечения
прибыли из крестьянского труда было обложение оброком. На первый взгляд
эта повинность может показаться не слишком обременительной. Оброчный
крестьянин ежегодно выплачивал господину определенную денежную сумму и
во всем остальном имел возможность трудиться и жить относительно
самостоятельно. Помещикам оброчная система была также удобна. Она
обеспечивала регулярный доход с имения и одновременно избавляла от
необходимости вникать в хозяйственные дела. И все же, как правило, на
оброк переводили поместья, расположенные в нечерноземных губерниях и
там, где земледелие не приносило необходимого дохода. В условиях
натурального хозяйства "живые" деньги были редкостью. Чтобы расплатиться
с помещиком, крестьяне отправлялись на заработки в города. Там они
нанимались на фабрики, зарабатывали каким-нибудь ремеслом или
становились извозчиками. Часто целые деревни и села специализировались
на том или ином промысле. Так, село Павлово на Оке, вотчина графов
Шереметевых, славилось мастерами-замочниками и кузнецами, среди которых
было немало зажиточных. Но в большинстве случаев оброчные
крестьяне оказывались в крайне тяжелом положении. Господа кроме денег
требовали доставки натуральных припасов -- продовольствия, дров, сена,
холста, пеньки и льна. Примером натуральных господских поборов может
служить перечень из поместья полковника Аврама Лопухина в селе Гуслицах:
деньгами 3270 руб., сена 11000 пудов, овса, дров трехаршинных, 100
баранов, 40000 огурцов, рубленной капусты 250 ведер, 200 куриц, 5000
яиц, также ягод, грибов, овощей и прочего -- "сколько потребуется для
домашнего обиходу". Иностранный путешественник был потрясен,
став однажды свидетелем выполнения натуральной повинности в дворянском
поместье: "Подобно пчелам, крестьяне сносят на двор господский муки,
крупы, овса и прочих жит мешки великие, стяги говяжьи, туши свиные,
бараны жирные, дворовых и диких птиц множество, коровья масла, яиц
лукошки, сотов или медов чистых кадки, концы холстов, свертки сукон
домашних". Кроме этого крестьяне были обязаны
каждый год на мирской счет выставлять плотников для строительства жилых и
хозяйственных зданий в разных вотчинах, рыть пруды и проч. Они
содержали на свой счет управителя и его семью. По требованию помещика
крестьяне на собственных подводах и лошадях отправлялись в дорогу по
разным господским надобностям. С.Т. Аксаков так начинает свою "Семейную
хронику": "Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в
родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских..."
Следствием этой "тесноты" стало переселение дедушки в соседнюю губернию
вместе с пожитками, слугами, чадами и домочадцами. Конечно, переселяемых
крестьян никто не спрашивал о том, тесно ли было им и хотят ли они
расставаться с родными местами. Но более значимым было то, что все
расходы по переселению ложились на самих крестьян. С.Т. Аксаков не
углубляется в хозяйственные подробности, поэтому придется обратиться к
данным по имению упоминавшегося А. Лопухина. Когда он задумал перевести
несколько крестьянских семей из подмосковной в свою орловскую вотчину,
для них были куплены шубы, сани и множество других вещей, необходимых
для обзаведения хозяйством на новом месте. Эта отеческая забота помещика
легла дополнительным бременем на оставшихся на месте крестьян,
поскольку все было куплено за их счет. Но, кроме того, остающиеся должны
были платить за переселенных оброк и выполнять прочие повинности вплоть
до новой ревизии. Расходов и обязанностей было слишком много, и число
их постоянно увеличивалось, в результате чего лопухинские крестьяне, в
челобитной на имя императрицы, жаловались, что под властью своего
господина они "пришли в крайнее разорение и скудость". Правда, встречались помещики,
старавшиеся не слишком обременять своих крестьян. Они если и требовали
наряду с оброчными деньгами некоторых натуральных повинностей, в том
числе и доставки продуктов, то делали это не сверх установленных
платежей, а включали их в сумму оброка. Но такие щепетильные господа
были настоящей редкостью, исключением из общего правила. Вообще все в поместье, в том числе и
судьба крестьян, их благополучие или разорение, целиком зависели от воли
владельца. Ни закон, ни обычай не определяли никакой другой меры во
взаимоотношениях господ и крепостных людей. Добрый и состоятельный, или
просто легкомысленный помещик мог назначить необременительный оброк и
много лет вообще не показываться в имении. Но чаще всего бывало иначе, и
крестьяне, кроме денег и натуральных повинностей, должны были еще и
обрабатывать господскую землю. Так, например, крестьяне одного помещика
московского уезда, кроме оброка в 4 тысячи рублей, пахали для господина
по 40 десятин[3] ярового хлеба и по 30 десятин ржи. В течение года они возили в
столичный дом помещика дрова, сено и столовые припасы, для чего
потребовалось несколько сотен подвод; отстроили новый дом в одной из
вотчин, на что, кроме своего труда и леса, израсходовали около одной
тысячи рублей из личных средств. Крестьяне обер-провиантмейстера
Алонкина в прошении на имя императора Павла жаловались, что господин
наложил на них оброк по 6 рублей с души, а притом принуждает
обрабатывать помещичью землю в размере 600 десятин. Кроме того, Алонкин
"на работу посылает ежедневно как мужчин так и женщин для копания
прудов, и на работе безщадно и безчеловечно мучил побоями. Некоторые от
оных побоев померли, а другие женщины, беременные, от безщадного
телесного наказания выкинули мертвых младенцев, и так чрез самое его
безчеловечие пришли все в нищее братство"... Не легче было крестьянам и в том случае,
если господа не заставляли исполнять лишних работ, но предпочитали
просто повышать сумму оброка. Нередко такие платежи были столь высоки,
что вконец разоряли крестьянское хозяйство. Крестьяне генерал-аншефа
Леонтьева оказались доведены поборами помещика до такой крайности, что
были вынуждены в конце концов питаться подаянием. Тщетно умоляя своего
господина уменьшить бремя выплат, они обратились с отчаянной челобитной к
императрице, в которой признавались, что и продав "последние из
домишков своих", не смогут выплатить и трети возложенного на них оброка.
При этом управитель, по приказу Леонтьева, их "бьет и мучит нещадно" с
женами и детьми. Крестьянин Н. Шипов вспоминал: "Странные
бывали у нашего помещика причины для того, чтобы увеличивать оброк.
Однажды помещик с супругою приехал в нашу слободу. По обыкновению,
богатые крестьяне, одетые по-праздничному, явились к нему с поклоном и
различными дарами; тут же были женщины и девицы, все разряженные и
украшенные жемчугом. Барыня с любопытством всех рассматривала и потом,
обратясь к своему мужу, сказала: "У наших крестьян такие нарядные платья
и украшения; должно быть, они очень богаты и им ничего не стоит платить
нам оброк". Недолго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка". Примеров подобного произвола множество,
они были обыкновенны, и именно потому, что крестьяне рассматривались
просто как одушевленное средство для обеспечения своему господину
необходимых условий для жизни, "приличной благородному дворянину". Об
одном из таких "благородных" помещиков рассказывает Повалишин. Некто Л.,
промотавшийся офицер, после долгого отсутствия вдруг нагрянул в свою
деревню и сразу значительно увеличил и без того немалый оброк. "Что
будешь делать, -- жаловались крестьяне, -- барину надо платить, а
платить нечем. Недавно он был здесь сам и собирал оброк. Сек тех,
которые не платят. Вы мои мужики, говорил он нам, должны выручать меня; у
меня кроме этой шинели нет ничего... Один было сказал, что негде взять,
он его сек, -- сек как собаку; велел продавать скот, да никто не купил.
Кто же купит голодную скотину -- кости да кожа? Сорвал с тех, которые
побогаче, 1000 рублей и уехал. Остальные велел прислать к нему". Такое посещение дворянином своей вотчины
больше похоже на разбойничий налет. Но еще тяжелее приходилось
крестьянам, если руку на их пожитки накладывал барин дельный, да еще и
ласковый, каким запомнился его господин бывшему крепостному Савве
Пурлевскому. Помещик приехал в село с супругой и
сразу прошелся по улице, внимательно все оглядывая, заходя в дома,
распрашивая мужиков о житье-бытье. Держал себя с крестьянами просто,
умел расположить к себе. На приветствие мирского схода отвечал степенно,
с видимым уважением к собравшимся старикам. Бурмистр от имени села
кланялся барину, говорил, что всем миром Бога молят о здравии господина и
чтят память недавно почившего папеньки его. Барин улыбнулся, отвечал:
"И это, старики, не худо. Спасибо за память". Но потом как-то так вдруг
перешел к делу, что никто и опомниться не успел: "Но не забывайте, что
нам нужны теперь деньги. Мы не хотим увеличивать оброк, а вот что
сделаем. Соберите нам единовременно двести тысяч рублей. Как вы люди все
зажиточные, исполнить наше желание вам не трудно. А? Что скажете?" Поскольку крестьяне молчали в
растерянности от услышанного, господин воспринял их молчание за
положительный ответ: "Смотрите же, мужички, чтобы внесено было
исправно!" Но тут сходка взорвалась криками: "Нет, батюшка, не можем!"
"Шутка ли собрать двести тысяч!" "Где мы их возьмем?" -- А дома-то смотри какие настроили, -- возразил, усмехнувшись, барин. Но сход не унимался: "Питаемся промыслом, платим оброк бездоимочно. Чего еще?" Пурлевский продолжает: "Услышав такой
решительный отказ, барин посмотрел на нас, опять улыбнулся, повернулся,
взял барыню под ручку, приказал бурмистру подавать лошадей и тотчас
уехал... Через два месяца вновь собрали сходку, и тогда уж без
околичности был прочитан господский указ, в котором начистоту сказано:
"По случаю займа в Опекунском совете[4] 325 тысяч на двадцать пять лет, процентов и погашения долга требуется
около 30 тысяч в год, которые поставляется в непременную обязанность
вотчинного правления ежегодно собирать с крестьян, кроме прежнего оброка
в 20 тысяч; и весь годичный сбор в 50 тысяч разложить по усмотрению
нарочно выбранных людей, с тем, чтобы недоимок ни за кем не числилось, в
противном случае под ответственностью бурмистра неплательщики будут,
молодые -- без очереди сданы в солдаты, а негодные на службу -- отосланы
на работу в сибирские железные заводы". В безмолвной тишине, прерываемой
вздохами, окончилось чтение грозного приказа. В этот момент в первый раз
в жизни почувствовал я прискорбность своего крепостного состояния...
Такой огромный налог всех устрашил до крайности. Казался он нам и
незаконным. Но что же было делать? В то время подавать жалобы на господ
крестьянам строго воспрещалось..." Оброк часто бывал индивидуальной
повинностью, когда им облагали не все население поместья, а отдельных
людей, приносивших господину доход своим ремеслом или искусством.
Хозяйственные помещики, как правило, тщательно отбирали среди
крестьянских детей способных к той или иной деятельности и отдавали в
обучение. Повзрослев, такие крепостные мастера и ремесленники исправно
выплачивали барину большую часть заработанных денег. Особенно ценились талантливые музыканты,
художники, артисты. Они, кроме того, что приносили значительный доход,
способствовали росту престижа своего господина. Но личная судьба таких
людей была трагичной. Получив, по прихоти барина, блестящее образование,
пожив нередко за границей и в Петербурге, где многие, не догадываясь об
их происхождении, обращались с ними как с равными, достигнув мастерства
в своем искусстве, крепостные артисты забывали, что они -- всего лишь
дорогая игрушка в руках хозяина. В любое мгновение их мнимое
благополучие могло быть разбито по мимолетному капризу помещика. Крепостной человек помещика Б., Поляков,
окончил Академию живописи, получил множество наград и отличий. Ему
заказывали портреты представители известнейших аристократических
фамилий, и за каждую работу художник получал значительные гонорары. Но
его господину захотелось, чтобы художник прислуживал ему в качестве
форейтора. Напрасно учителя и покровители Полякова хлопотали о смягчении
его участи. Помещик был неумолим, и закон целиком оказывался на его
стороне. Судьба Полякова сложилась трагически. Современник передает в
своих воспоминаниях, что он был выдан хозяину и "по настойчивому
приказанию своего господина сопровождал его на запятках кареты по
Петербургу, и ему случалось выкидывать подножки экипажа перед теми
домами... где он сам прежде пользовался почетом, как даровитый художник.
Поляков вскоре спился с кругу и пропал без вести". После этого на
совете Академии постановили только, что отныне, во избежание подобных
досадных случаев, не принимать в ученики крепостных людей без отпускной
от помещика. Свидетельства о таких судьбах
встречаются у многих мемуаристов, русских и иностранцев. Француз де
Пассенанс рассказывает историю о крепостном музыканте. После обучения
своему искусству в Италии у лучших мастеров музыки молодой человек
вернулся на родину по требованию помещика. Барин остался доволен его
успехами и заставил играть перед многолюдным обществом, собравшимся в
тот вечер в господском доме. Желая удивить им своих гостей как редкой
диковиной, барин велел играть без перерыва много часов кряду. Когда
скрипач попросил позволения отдохнуть, господин вспылил: "Играй! А если
будешь капризничать, то вспомни, что ты мой раб; вспомни о палках!"
Отвыкший от нравов, заведенных в родном отечестве, доведенный до
отчаяния усталостью и безвыходностью своего положения, униженный человек
выбежал из залы в людскую и топором отрубил себе палец на левой руке.
Пассенанс приводит его слова: "Будь проклят талант, если он не смог
избавить меня от рабства!". Этот поступок, в духе древних римлян, не
был оценен по достоинству в дворянском доме. Своим следствием он мог
иметь только жестокое наказание на конюшне и вечную ссылку в глухую
деревню, где бывший музыкант до конца дней должен был ухаживать за
скотом или исполнять другую черную работу. Осознание полного бесправия и
беспомощности приводило к тому, что крепостные люди, по разным
обстоятельствам приобщившиеся на короткое время к иной жизни и снова
ввергнутые в рабство, кончали самоубийством или спивались. Эти
происшествия, иногда упоминавшиеся в "благородном" обществе в качестве
забавного анекдота, приводили в изумление и ужас иностранных гостей. Они
никак не могли понять, каким непостижимым образом в русских
аристократах сочетаются внешний лоск цивилизованности и варварский
деспотизм. * * * Но большая часть крепостных крестьян
была предусмотрительно избавлена своими господами и попечением
правительства от искушения славой и душевных терзаний. Абсолютное большинство из них не только
не учились в Италии у лучших живописцев и музыкантов, но никогда не
выезжали из родного села в ближайший уездный город. Они всю жизнь
трудились на барщине. Причиной чрезвычайно тяжелого положения
барщинных крестьян, которое признавалось всеми, от частных лиц до самой
императрицы, была неопределенность размеров их повинностей помещику. На
протяжении всего XVIII и до середины XIX века просвещенные вельможи
подавали "на высочайшее имя" записки и доклады, в которых предлагали те
или иные меры по изменению этого положения. Сама Екатерина и ее
преемники неоднократно заявляли о необходимости юридическими нормами
ограничить произвол -- но за все время существования крепостного права
правительство так и не решилось предпринять никаких практических мер,
которые действительно могли бы облегчить участь крестьян. Соборное Уложение 1649 года глухо
оговаривается только о запрете принуждать к работам по воскресным и
праздничным дням. За сто лет, прошедших со времени издания Уложения,
землевладельцами повсеместно игнорировались и эти робкие законодательные
ограничения. А вынужденное обстоятельствами постановление Павла I "о
трехдневной барщине" носило исключительно рекомендательный характер и
почти нигде не исполнялось. От произвола помещика зависело не только
число барщинных дней, но и продолжительность работы в течение дня. Эта
продолжительность нередко была такой, что захватывала и часть ночи, не
оставляя крестьянам даже темного времени суток для работы на своем поле.
В такой ситуации едва ли не верхом гуманности выглядела инициатива
части дворян ораниенбаумского и ямбургского уездов Санкт-Петербургской
губернии, определивших своим крестьянам четкие рабочие нормы: не более
16 часов/сутки в летние месяцы. При отсутствии правил в одном и том же
уезде у соседей-помещиков практиковались разные сроки барщины. Некоторые
господа вводили у себя в имении вовсе разорительный для крестьянского
хозяйства обычай, когда крепостные безотлучно трудились на пашне
помещика до тех пор, пока не заканчивался весь круг сельских работ, и
только после этого их отпускали на свои участки. В таких обстоятельствах неудивительно,
что у многих помещиков возникла мысль о совершенной ликвидации отдельных
крестьянских наделов и включении их в господскую запашку. Крестьяне,
лишенные какого бы то ни было личного хозяйства, теперь полностью
превращались в сельских рабов. Это уродливое явление российской
действительности времен империи, развившееся из неограниченной законом
барщины, получило название "месячины". Радищев дает подробное описание такой
рабовладельческой плантации: "Сей дворянин Некто всех крестьян, жен их и
детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с
голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем
месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали,
а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе,
употребляя, для соблюдения желудка, в мясоед пустые шти, а в посты и
постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на Святой
неделе. Таковым урядникам[5] производилася также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь
для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина
своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни
коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у
них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был
умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда
бирал себе... При таковом заведении неудивительно, что
земледелие в деревне г. Некто было в цветущем состоянии. Когда у всех
худой был урожай, у него родился хлеб сам-четверт; когда у других
хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам-десят и более. В
недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему
корыстолюбию; и, поступая с ними равно, как и с первыми, год от году
умножал свое имение, усугубляя число стенящих на его нивах. Теперь он
считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец". Описанная картина не была редкой для
сельскохозяйственного ландшафта России не только в XVIII веке, но вплоть
до самой отмены крепостного права. Но очевидно и то, что для создания
такого концлагеря помещик должен был обладать определенно низкими
моральными качествами. Радищев в негодовании так и обращается к этому
дворянину Некто: "Варвар! Не достоин ты носить имя гражданина!" Любопытно, что некоторые наши
современники, причем из научной среды, смотрят на дело гораздо
спокойнее. Так, один историк, в подтверждение своего взгляда, будто бы
крепостное право и ко времени своей отмены далеко не исчерпало своего
полезного для страны потенциала, утверждает, что "помещичьи крестьяне
работали не только больше, но и качественнее, чем казенные". Важно, на
чем уважаемый ученый основывает свое мнение. Он отмечает, что основным
источником роста урожайности в помещичьих хозяйствах было "улучшение
обработки полей за счет роста интенсивности труда"! Надо ли уточнять, что за этой деликатно
сформулированной фразой о "росте интенсивности труда" на барщине в
действительности скрывается ничем не ограниченное насилие над
крестьянами?! Может ли это обстоятельство быть оправдано чем-нибудь, и
увеличением урожайности в том числе? Еще Радищев справедливо задавался
вопросом: "Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год
более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с
волом, определенным тяжкую вздирати борозду?" Как землевладельцы добивались роста
интенсивности труда среди своих крепостных, можно себе представить хотя
бы на основании воспоминаний А.И. Кошелева. Известный общественный
деятель, Кошелев был, кроме всего прочего, крупным помещиком и одно
время даже предводителем уездного дворянства. Поэтому описанные им
случаи из помещичьей практики особенно ценны. Он пишет: "В соседстве
моем жил помещик Ч., человек недурной, пользовавшийся общим уважением в
дворянстве... При земляных работах, чтобы работники не могли ложиться
для отдыха, Ч-ов надевал на них особого устройства рогатки, в которых
они и работали. За неисправности сажал людей в башню и кормил их
селедками, не давая им при этом пить... Брань, ругательства и сечение
крестьян производились ежедневно". Каждая жалоба из бессчетного числа
крестьянских челобитных представляет крепостное право с новой стороны,
удивляя примерами господского цинизма и часто бессмысленной жестокости. Так, например, крепостные генерала Гурко жаловались на притеснения со
стороны управляющего и чрезвычайное обременение работами. Писали, что
управляющий запрягает крестьян с женами и детьми "вместо лошадей в сохи и
пашет ими, как скотиной..." Не только дворяне, но и монахи синодской
церкви, а монастыри до 1764 года имели право владеть населенными
имениями, обходились с крепостными немилостиво. В Курской губернии
исследователем Добротворским были собраны интересные свидетельства о
том, как жилось крестьянам под властью монашеской обители: "Монастырская
неволя была пуще панской... Рассказывают старики, что житье было тогда
незавидное. Вместо лошадей у монахов служили они: на них и воду возили, и
землю пахали". Весьма примечательно, что образ
крепостных крестьян, впряженных в соху или телегу вместо скота, --
постоянно встречается в записках современников. Как тут не вспомнить
горькое радищевское сравнение крестьян с волом, "определенным тяжкую
вздирати борозду"?! * * * Нельзя не признать, вслед за историком
XIX столетия, что все развитие помещичьего хозяйства "давало основание
заключить о переходе крестьян в совершенное рабство". Среди прочего,
наиболее ярко полное бесправие крепостных людей проявлялось в
бесцеремонном вмешательстве господина в их личную жизнь, и в заключение
браков в первую очередь. Действительно, в эпоху крепостничества у
крестьян было два основных способа устроить свою брачную жизнь -- "по
жребию" и "по страсти". О последнем способе дает представление следующая
история: одна эмансипированная молодая барыня, вернувшись вскоре после
реформы 1861 года из заграничного путешествия в свое имение, собрала
крестьянских женщин и устроила чаепитие. За чаем она и поинтересовалась
-- все ли они вышли замуж "по любви"? Крестьянки явно не поняли вопроса
госпожи и недоуменно смотрели на нее. -- Ах, ну как же вы не понимаете! -- воскликнула барыня. -- Ну, значит, по страсти! -- По страсти, по страсти, -- вдруг
оживившись, закивали женщины. -- Известно -- кого назначит барин, или
бурмистр, с тем и под венец! А если заупрямишься, так выпорют кучера на
конюшне, прямо страсть! А. Пушкин, сам однажды пересказывая
подобный же случай, отметил при этом: "Таковые "страсти" обыкновенны.
Неволя браков давнее зло". Но необходимо помнить, что история, сегодня
имеющая значение едва ли не анекдота, в крестьянском быту XVIII-XIX
веков оказывалась человеческой трагедией. Один "благородный" душевладелец оставил
для потомства свои соображения о наилучшем развитии помещичьего
хозяйства: "Добрые экономы от скотины и птиц племя стараются
разводить, -- писал он, -- а потому о размножении крестьян тем более
печность т. е. заботу следует иметь". И рекомендовал отдавать крепостных
"девок" замуж не позднее 18 лет. Любопытно, что здесь с ним полностью
соглашался А. С. Пушкин, который был не только великим русским поэтом,
но и обыкновенным российским помещиком. В одной из своих
публицистических статей он писал: "Осмелюсь заметить одно: возраст,
назначенный законным сроком для вступления в брак, мог бы для женского
пола быть уменьшен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем климате уже на
выдании, а крестьянские семейства нуждаются в работницах..." Впрочем, в работницах нуждались не
только крестьяне, но в первую очередь их владельцы. И решение этого
"хозяйственного" вопроса было для них тем проще, чем глубже в среде
поместного дворянства утверждался взгляд на крепостных людей, как на
рабочую скотину. Новгородский губернатор Сивере, один из немногих
вельмож за всю российскую историю, сохранивших объективность и здравый
взгляд на действительность, отмечал утилитарное отношение помещиков к
своим крестьянам: "Землевладельцы в России обыкновенно принуждают к
браку молодых людей и делают это для того, чтобы иметь лишнюю пару,
т. е. новое тягло, на которое можно еще наложить работу или оброк". Понятно, что чем населеннее были
дворянские вотчины, тем сильнее ограничивалась возможность
индивидуального подхода к женитьбе крестьян. Князь А. Голицын,
ознакомившись со списками, представленными ему старостами, убедился, что
в его имениях слишком возросло число незамужних девиц и неженатых
парней. Видя в сложившемся положении прямой убыток для себя, князь велел
немедленно расписать потенциальных женихов и невест по возрасту и
венчать "по жребию". Справедливости ради надо сказать, что со
стороны князя это была только мера устрашения. Как тогда говорили --
"под рукой" велели бурмистрам не спешить с исполнением сурового приказа.
И действительно, господский намек крестьянами был понят верно. За одну
неделю сыграли 400 свадеб, не дожидаясь "жребия". Но душевладельцы редко соединяли в себе
способность беречь собственные хозяйственные интересы без лишнего
насилия над плотью и чувствами своих рабов. Один крестьянин, родившийся
крепостным, так вспоминал об обстоятельствах женитьбы своих родителей и
многих односельчан: "Назначили для этого время в году и по особому
списку вызывали в контору женихов и невест. Там по личному указанию
немца-управляющего составлялись пары, и под надзором конторских
служителей прямо отправлялись в церковь, где и венчались по нескольку
вдруг. Склонности и желания не спрашивалось. По долгом времени такой
горести возникли письменные жалобы крестьян к самому помещику, который
на беду не обратил на них внимания, а вверился управляющему и, не
разобрав, дозволил ему "проучить" всех просителей домашним образом. И
пошла потеха: каждодневная жестокая порка..." Важной особенностью развития крепостного
права, как оно сложилось во второй половине XVIII века является, с
одной стороны, появление все новых законов, официально расширяющих права
дворян в распоряжении крепостными людьми, а с другой -- повсеместное
нарушение прежних законов, хотя бы в малом ограничивающих помещичий
произвол. Так, например, при Петре I, в 1724 году
выпущен был указ, запрещавший венчать по одному только изволению господ
или родителей, "но непременно, чтобы при том и брачующиеся оба лица
свободно явно и добровольно объявили свое желание". Очевидно, что это
петровское распоряжение, никогда формально не отмененное, было неудобно
помещикам, стесняя их полномочия, и попросту игнорировалось, а вскоре
совсем было забыто. Большинство же крестьян о нем, вероятно, и вовсе
никогда не слышало. Забвение постигло и другой наказ Петра,
дававший право солдатам брать в жены крепостных крестьянок, не спрашивая
на то разрешения помещика. К середине века не только согласие
душевладельца на брак своей "рабы" стало обязательным, но нередко иному
солдату приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы вырвать свою
собственную жену из рук помещика, владеющего ею незаконно. В источниках
сохранилось любопытное дело такого рода, от 1746 года. Оно имеет
красноречивое название: "О присвоении профессором Тредьяковским жены
гренадерской". В Военную коллегию была доставлена жалоба: "По донесению
гренадера Невского гарнизонного полка Мадыма Беткова из башкирцевжена
его Ентлавлета Однокулова, оставшись по сдаче его в рекруты на родине в
Казанской губернии, попалась ему навстречу в Санкт-Петербурге и
объявила, что она по взятии его, Беткова, в службу, чрез несколько
времени не знает какими офицерами вывезена в Санкт-Петербург и, назад
года три, отдана ими в подарок профессору Санкт-Петербургской Академии
Наук Василию Кириллову сыну Тредьяковскому, где и живет в услужении.
Поэтому гренадер Бетков и просит об отдаче ему означенной жены его". Военная коллегия потребовала от
канцелярии Академии наук сведений: действительно ли женка Ентлавлета
находится у профессора Тредьяковского в услужении и по каким актам он ею
владеет? На это Академия своей промеморией, подписанной президентом
Кириллом Разумовским и членами Академии, препроводила в Коллегию
собственноручный отзыв по этому делу Тредьяковского. Поэт писал: "Башкирец Мадым Бетков
доносит ложно... для того что я имею у себя с 1742 года жонку
башкирскаго народа, которая мне дана в услуги жене моей тестем моим
протоколистом Филипом Ивановым сыном Сибилевым... а ныне во Святом
крещении с 1740 году именуется она Наталья Андреева дочь... Он же
гранодер башкирец прелагает[6] слехка, говоря только просто, что она взята из Казанския губернии
офицерами; но сие походит на то, что буттобы она была прямо украдена.
Однако сие делалось не так... ибо помянутая жонка подлинно взята
военными людьми, но в то время, когда в тех местах, и близ города
Самары, бунтовали воры-башкирцы, и пойманная вместе с бунтовщиками, из
которых многии там тогда и казнены, привезена потом, с оставшимися после
вершенных[7] мужей бабами своего народа, в город Самару, где отдана помянутому мною
тестю, так как и прочим многим бабы, девки и ребята бунтовщичьи розданы
по указу, в наказание бунтовщикам... А хотя бы помянутая жонка и подлинно
была в Башкирии сего ныне гранадера жена, по магометанскому беззаконию;
однако нет нигде у нас как правил, чтоб христианку признавать
басурманскою женою, и отдавать за нечестивого безверника. Но с другой стороны, хотяж бы ныне
гранадер-башкирец и обешчался восприять святое крещение, чего я ему и
желаю; однако, помянутая жонка также бы не могла быть его женою, для
того что он бы сие учинил уже после, и может быть не больше для спасения
души, сколько для получения себе жены, которую ему, как башкирцу, здесь
сыскать трудно; а тесть мой, как законный ея по указу господин... не
имеет ни малаго намерения отдать ея за помянутаго гранадера... ибо
прежнее башкирское совокупление, хотя и действительно у них было, однако
оно не законное... для того что у них можно иметь по три, по четыре, и
по седми жен, или справедливее, незаконных наложниц. И потому, ежели бы
он захотел... вклепаться здесь во всех седмь башкирок, то бы надлежало
для него требовать от их господ всех седми. Подлинно, был бы он богат,
не по солдатским животам, женами.... На подлинном написано: "Сие известие писал я Профессор Василей Тредиаковский своею рукою. Октября 13 дня, 1746 года"". Военная коллегия требовала от Беткова
доказательств, какие он имеет о том, что названная жена ему
действительно принадлежит. На это требование от начальства Беткова были
представлены показания свидетелей-сослуживцев "о принадлежности Беткову
означенной жены его, названной по Святом крещении Натальей Андреевой". В июне 1747 года обер-комендант Игнатьев
докладывал в Военной коллегии, что "Тредьяковский при свидании ему
лично объяснил, что когда гренадер примет веру греческого исповедания,
то и жену ему отдаст; и что, по принятии гренадером этой веры, причем он
назван Петром Петровым, об отдаче ему той жены его был послан от него,
Игнатьева, к Тредьяковскому нарочный; но Тредьяковский посланному
сказал: "Не отдам, ибо де она ему крепостная"". Впрочем, эта история закончилась
счастливо. Военная коллегия, несмотря на упорство Тредьяковского,
определением от 29 июня 1747 года постановила: отобрать от него жену
гренадера Петрова Наталью Андрееву "безо всяких отговорок" и возвратить
ее мужу. О необходимости немедленного исполнения этого распоряжения
уведомили Академию наук. Наконец 20 августа из Академии в Коллегию
сообщили, что Андреева мужу отдана. Но пример того, как известный
русский поэт В. Тредьяковский цепко держался за свою "крещенную
собственность", не стесняясь разлучать мужа с женой, может дать
представление, как могли себя вести в подобной ситуации другие, менее
просвещенные помещики. В России с давних пор действовало
правило: "по рабе холоп, по холопу -- раба". Оно значило, что свободная
женщина, вышедшая замуж за крепостного, или вольный человек, женившийся
на крепостной, -- теряли свободу и переходили в собственность господина
их мужа или жены. Позднее, в конце XVIII века, выпустили постановления о
том, что вдовы и девицы вольного происхождения, вышедшие замуж за
помещичьих крестьян, после смерти мужей не должны быть обращаемы в
крепостное состояние против их воли. Но этот закон никогда не соблюдался
помещиками. Более того, случалось, что дворяне похищали свободных людей
-- на дороге, в поле, а нередко и прямо из дому, и насильно венчали со
своими крепостными, таким образом значительно увеличивая в короткие
сроки число невольников в усадьбе. Особенно подобные злоупотребления
были в ходу в отдаленных провинциях, но происходили и в центральных
губерниях, и даже в непосредственной близости от столицы, причем
похищали и насильно венчали невзирая на то, что жертва уже могла быть
замужем и, нередко, иметь детей. Вне зависимости от того, добровольно
крестьяне вступали в брак или по принуждению, господа от создания новой
крепостной семьи старались получить наибольшую выгоду во всем, даже в
мелочах. Так возник обычай платить помещику "вывод" за невесту.
Изначально это правило действовало в том случае, если крепостная девушка
выходила замуж за крестьянина другого помещика. Терявший работницу
землевладелец получал компенсацию -- как правило, среднюю рыночную
стоимость молодой женщины, принятую в той или иной местности. Эти деньги
платила семья жениха из своих средств, но невеста становилась, конечно,
собственностью дворянина -- владельца жениха. Впоследствии обязательство платить
"выводные деньги" распространили на браки крепостных и в том случае,
если они совершались в имении одного помещика. Эти поборы, уже
совершенно ничем не оправданные, превращались в новую обременительную
дань для крестьян. Тем более что душевладельцы совершенно произвольно
определяли размеры новой повинности. Некоторые предпочитали получить
натуральными продуктами; Радищев упоминает о дворянине, бравшем с
"венца" по два пуда меду. Но в большинстве случаев брачный оброк
взимался деньгами. Например, известная княгиня Е.Р. Дашкова требовала со
своих крестьян "вывод" до 100 рублей за невесту. Учитывая многолюдность
вотчин этой помещицы, крестьянские свадьбы служили для нее значительным
источником дополнительного дохода. Но если помещики проявляли большое
внимание к бракам крепостных крестьян, то еще строже они следили за
личной жизнью своих дворовых слуг. Свадьбы среди дворовых вообще не
приветствовались их владельцами. Нередко встречались дворяне, обрекавшие
своих домашних слуг на вечное девство и безбрачие. Генерал Л. Измайлов,
владелец нескольких сотен дворовых людей, говаривал обычно так: "Коли
мне переженить всю эту моль, так она съест меня совсем". В "Записках
охотника" Тургенев несколько раз касается этой темы. В рассказе "Льгов"
на вопрос о том, был ли он когда-нибудь женат, слуга отвечает: -- Нет, батюшка, не был. Татьяна
Васильевна, покойница, никому не позволяла жениться... Бывало, говорит:
"Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! Чего им надо!" Некоторые господа отказывали дворовым
потому, что боялись умножения "лишних ртов" или просто не желали терять
услужливую горничную, подозревая, что в замужестве она перестанет
исправно выполнять свои обязанности. Судьба девушки Арины, из другого
рассказа Тургенева, достаточно типична для того времени. Ее хозяин,
собеседник автора "Записок", сам передает, как Арина пришла однажды
просить у него разрешения на свадьбу: ""Батюшка, Александр Силыч,
милости прошу... позвольте выйти замуж". Я, признаюсь вам, изумился. "Да
ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?" -- "Я буду
служить барыне по-прежнему". -- "Вздор! Вздор! Барыня замужних горничных
не держит". -- "Воля ваша..." Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я
такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно
не оскорбляет, как неблагодарность... Я был возмущен... Но представьте
себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в
слезах, взволнована так, что я даже испугался. "Что такое случилось?" --
"Арина..." Вы понимаете... я стыжусь выговорить. "Быть не может!., кто
же?" -- "Петрушка-лакей". Меня взорвало... Я, разумеется, тотчас же
приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя
лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме
терпеть, однако же, нельзя..." Но большинство дворян совсем
пренебрегать чувствами и потребностями живых людей все же не решалось,
справедливо полагая, что женатые рабы менее агрессивны и более надежны.
Дворня постоянно жила в доме своего господина, и составлявшие ее люди, в
отличие от крестьян, часто не имели вовсе никакого личного хозяйства и
имущества. Поэтому с них обычно не только не требовали выкупа за брак,
но наоборот, подыскивали пару за господский счет. Дворовых девушек и женщин если и
выдавали замуж, то за своих же дворовых людей. Реже -- за крестьян. Для
мужской дворни также, случалось, брали жен из крестьянских семей. Но при
возможности старались избегать этого, чтобы не лишать тяглые
крестьянские хозяйства рабочих рук. Чаще невест предпочитали покупать по
случаю и подешевле на стороне. Сохранилось письмо об этом А.В. Суворова
своему старосте в одну из вотчин: "Многие дворовые ребята у меня так
подросли, что их женить пора. Девок здесь нет да и купить их гораздо
дороже, нежели в вашей стороне". Поэтому далее Суворов приказывает
старосте купить четырех "девок" от 14-ти и не старше 18 лет. Причем
добавляет: "Лица не очень разбирай. Лишь бы здоровы были..." * * * Кроме труда на барщине, выплаты оброка и
прочих многочисленных повинностей, некоторые помещики принуждали своих
крестьян к выполнению еще одной обязанности -- работе на господских
предприятиях и фабриках. Против коммерческой деятельности дворян
долгое время восставало купечество. Купцам было трудно конкурировать с
помещиками, находившимися в привилегированном положении и обладавшими
значительно большими возможностями. Торговые люди и промышленники
жаловались императрице Екатерине, что дворянину достаточно захотеть, и
для основания фабрики ему не нужно никакого капитала и усилий, поскольку
в его распоряжении даровая рабочая сила -- крепостные крестьяне. Такой
помещик приказывает своим мужикам от каждого двора привести сколько
нужно для строительства бревен и других материалов. А потом крепостных
заставляют строить не только совершенно бесплатно, но и "на своем
хлебе". А после постройки фабрики крестьяне часто совершенно
безвозмездно трудятся на ней. Купцы просили Екатерину, чтобы дворян,
если и нельзя вовсе им запретить владеть предприятиями, то хотя бы
принудить к тому, чтобы они возводили и обслуживали фабрики
исключительно трудом вольнонаемных рабочих. Но "благородные"
предприниматели решительно выступили против попыток ограничить свои
права. Князь М. Щербатов, историк и общественный деятель, всегда умело
отстаивавший сословные интересы душевладельцев ссылками на духовные и
нравственные принципы, максимально возможное расширение привилегий
дворян представлял как необходимую основу для сохранения стабильности в
государстве. По его мнению, владение фабриками, основанными на
крепостном труде, позволяло помещикам полнее осуществлять отеческую
заботу над крестьянами, склонными к лени и пьянству. Работа на
господских предприятиях полезна была для крепостных людей, по словам
князя Щербатова, тем, что "держала крестьян в постоянном трудолюбии" и
удерживала от пороков, свойственных "черни". "Жалованная грамота" российскому
дворянству, данная императрицей, положила конец спорам и надеждам
купцов. "Благородное шляхетство" Российской империи наделялось всеми
возможными правами, среди которых право заводить промышленные или иные
предприятия в своих вотчинах было выделено особо. Способов для получения прибыли от своих
коммерческих заведений для дворян существовало множество. Одни разом
переводили население целых сел в число фабричных рабочих. В этом случае оторванные от земли и привычного образа жизни люди трудились совершенно
бесплатно круглый год, получая из заводской конторы только необходимое
пропитание и одежду, что напоминало одну из форм "месячины". В лучшем
положении оказывались те, кто вместо натурального содержания получал для
обработки некоторое количество земли. В этом случае на предприятии
вводилась посменная работа, по 14 часов в день, но три дня в неделю. В
остальное время крестьянам позволялось возделывать свой участок, с
которого они и кормились. Такая система больше походила на своеобразную
производственную барщину. Выплаты денежного жалования были относительно
редки. А многие дворяне-заводчики предпочитали не связываться с
трудностями коммерческой деятельности вовсе и передавали свои фабрики
вместе с крестьянами в аренду купцам. Другие помещики попросту отдавали
крепостных крестьян внаем на чужие предприятия, получая от таких сделок
значительный доход. Из нечерноземных мест могли запродать мужиков на
много лет, а то и навсегда. Но чаще, руководствуясь, очевидно,
щербатовским правилом заботиться о пребывании крестьян "в постоянном
трудолюбии", -- отдавали сезонно, в зимнее время, когда
сельскохозяйственные работы уже завершены и у земледельцев появлялось до
весны свободное время. Тогда мужиков отгоняли на фабрики, нередко
находившиеся в других губерниях, в сотнях верст от родных сел, а женщин
сажали за пряжу и прочие необходимые домашние работы на пользу помещика. Примечательно, что по распространенному
среди помещиков обычаю и для избежания лишних расходов в дороге от
деревни до фабрики крестьяне должны были содержать себя сами, никаких
кормовых денег или продуктов им не выдавалось, и в продолжение всего
пути они перебивались только мирским подаянием. Декабрист Д. Якушкин вспоминал: "Однажды
зимою... я заехал на постоялый двор. Изба была набита народом,
совершенно оборванным, иные даже не имели ни рукавиц, ни шапки! Их было
более 100 человек, и они шли на винокуренный завод, отстоящий верст 150
от места их жительства. Помещик, которому они принадлежали, Фонтон
де-Варайон, отдал их на всю зиму в работу на завод и получил за это
вперед условленную плату... Такого рода сделки были очень обыкновенны.
Во время построения Нижегородской ярмарки принц Александр Виртембергский
отправил туда на работу из Витебской губернии множество своих нищих
крестьян, не плативших ему оброка. Партии этих людей сотнями и в самом
жалком положении проходили мимо Жукова".[8] * * * Беспощадная эксплуатация доводила
крестьян не только до разорения, но до полного отчаяния. Они обращались к
своим господам, умоляя хотя бы несколько войти в их положение и
уменьшить тяжелый гнет, указывая, что не в состоянии выплачивать
наложенные на них оброки и выполнять повинности. Вот один из типичных
образцов таких челобитных: "Государь наш! К Вашему превосходительству и
прибегнули под кров и защищение слезно просить нас, сирот Ваших, от
вышеписанного оброка второй половины ныне от платежа, за всекрайним
нашим убожеством и нищенством освободить до предбудущего года, чтоб мы
от того уже в конец не разорились, да и от прочих отягощениев оборонить.
И о том, государь наш, смилуйся и учини милостивый указ..." Надежда на жалость и справедливость
помещиков оправдывалась редко, и "милостивого" указа, как правило, не
следовало. А наоборот, от господина к управляющему в имение летело
строгое распоряжение прекратить "бунт", виновных и просителей проучить
"по-домашнему" -- т. е. понятно -- выпороть, недоимки и оброк собрать
сполна. Конечно, отношения у крестьян с
помещиками складывались по-разному, они не всегда начинались и
заканчивались наказаниями и утеснениями. Некоторые владельцы расписывали
для своих вотчин подробные своды правил и заставляли следовать им не
только крепостных людей, но делали их обязательными и для управляющих, и
для самих себя. Находились такие, что вопреки вседозволенности,
предоставляемой законами, самостоятельно ограничивали размер оброка,
число барщинных дней; а если сверх того требовали взносов натуральными
продуктами, то не иначе, как в счет суммы оброка, как поступал,
например, Суворов в своих вотчинах. Иные господа поддерживали крестьян в
голодные годы. И все же эти частности не меняли
главного во взаимном положении крепостных и дворян друг к другу --
законодательство и правительство империи, весь ход развития российской
государственности фактически превратили крестьян в рабочий инвентарь
помещичьей усадьбы. Такой утилитарный взгляд на крестьян, естественно,
приводил не только к постоянному росту требований об увеличении числа и
размеров их повинностей, но и подсказывал естественный способ их
взыскания. Поэтому насилие и плеть навсегда останутся символами
крепостной эпохи. Славянофил А. Кошелев после знакомства
со средой уездного дворянства писал: "Добрый помещик есть счастливый
случай, редкое исключение из общего правила; огромное же большинство
владельцев, конечно, не таково... но даже у помещиков, считающихся
добрыми, жизнь крестьян и дворовых людей крайне тяжела". Крепостные справедливого, хотя и
требовательного Суворова, тем не менее жаловались ему, что пришли "в
крайний упадок и разорение", и в действительности это было правдой. Но
примечательнее реакция знаменитого полководца на просьбы своих "рабов"
-- наскучив от обременительных мужицких обращений, он составил
инструкцию, как следует отныне подавать прошения на имя помещика. Перечень этих правил на самом деле был не чем иным, как издевательской
шуткой, и призван был сбить с толку неискушенных, почти сплошь
неграмотных крестьян. Вот этот документ: "Говорить должно по артикулам и
статьям. Каждую вещь, каждой вещи часть подробно истолковать и брать в
уважение, одну часть соображать с другою; сравнивать тягость с
полезностью. Не реша одной части к другой не приступать. Ежели в которой
части найдется большое препятствие, мнимая невозможность, непонятие и
сумнение, предоставлять ее до конца. Начинать решение частей легчайшими
частьми... имея белую бумагу, на одной половине страницы означивать
препятствия, недоразумения, сумнения; на другой половине страницы их
облегчать, объяснять, опровергать и уничтожать. Сие иногда чинится
уподоблением и заменою. Соблюдать и смотреть на мои правила миром". Не поняв барских шуток и не получая
ответа на свои чаяния, крепостным ничего не оставалось, как в поисках
защиты от притеснений обращаться к императорскому престолу. Тексты
множества этих челобитных, сохранившихся до нынешнего времени, искренне и
безыскусно описывают, что приходилось терпеть крестьянам от своих
господ. От имени своих не ученых грамоте
односельчан некий грамотей Аким Васильев обращался к Александру I:
"Владелец наш стал утеснять непомерным оброком и другими повинностями,
принуждая к выполнению требований угрозами и тиранством до такой
степени, что многие из доверителей моих, быв наказаны безщадно, померли,
а другие, боясь подвергнуться таковой же участи, скрывались долгое
время, оставя дома свои и семейства. Четыре года претерпевая тиранство и
разорение... доверители мои, не находя средств к избавлению себя от
столь насильственного ига, доверили мне ходатайствовать у престола
Вашего императорского величества о всемилостивейшем воззрении на
несчастную участь верноподданных..." Из других обращений: "Припадая ко
преосвященному Вашему трону, всемилостивейшему нашему государю, с
верноподданнейшим нашим третьим ! -- Б Т.прошением...
оная наша госпожа совсем нас разорила и довела в крайнее убожество, так
что отняла у нас хлебопахотную нашу крестьянскую землю и сенокосные
луга и хлеб наш крестьянский отняла в свое владение. Имущество все
растащили, лошадей и коров наших отняли в свое владение, из домов нас
выгнали... Всемилостивейший государь, воззрите всемилостивейшим и
человеколюбивым оком Вашим к нам, великостраждущим и погибающим от нашей
госпожи Здраевской, что мы не можем скрыть смерть от ее нападения"! "Утягощены на господской работе, ни в
зиме, ни в лете ни единого дни на себя работать не дает, ни воскресение;
оттого все в мир пошли, кормимся Христовым именем..." "Означенный господин наш крестьян вконец разорил несклонной своею работою..." "Припадая к освященнейшим Вашего
императорского величества стопам осмеливаемся изъяснить: как оный
господин наш начал нами владеть, то мы не имеем от его работ ни дня, ни
ночи отдохновения, выгоняя нас, мужской и женский пол как в праздничные,
так и в высокоторжественные дни, и навсегда у него находимся в работе
на винокуренных заводах... Пересек до несколько сот человек плетьми, не
щадя ни старого, ни малого, так, что на том месте оставил троих
маленьких, да троих больших, чуть живых и изувеченных, которые находятся
теперь при смерти..." "Начали нас бить и били без пощады так,
что без мала на том месте оставили из нас, побитых и измученных, чуть
вживе, человек до 100. После сего по приказанию нашего господина
Викулина приказчик его приехал в наши селения и бил наших двоих женщин
брюхатых до тех пор, что они из своих брюх скинули младенцев мертвых, а
потом и оные женщины от побои лишились жизни. Тот же приказчик наших
трех крестьян лишил жизни... Ваше императорское величество! Если мы у
него останемся далее во владении, то он нас и половины вживе не
оставит..." Насколько справедливы были жалобы
крестьян и насколько циничным и потребительским было к ним отношение
господ, видно по следующему откровенному письму одного помещика
Казанской губернии к своему старосте по поводу взыскания недоимок: "О
крестьянах, что они неимущие и ходят по миру, отнюдь ко мне не пиши: мне
это нож; я хочу воров разорить и довести хуже прежнего, -- так они милы
мне; почти я от них допущен ходить с кузовом по миру. Уповаю и надеюсь
до 1000 рублей взыскать без всякого сумнительства..." "Всемилостивейший" государь также не
спешил откликнуться на крестьянские мольбы. В абсолютном большинстве
случаев надежды крепостных людей на справедливую защиту со стороны
императорского престола не оправдывались. Вместо этого челобитчики,
осмелившиеся нарушить указы о запрете жаловаться на своих господ,
наказывались плетьми и возвращались обратно помещикам. Романовы были самыми крупными в России
владельцами крепостных "душ". В начале XIX века в личном владении членов
императорской фамилии было около 3 миллионов крестьян. Но не это
обстоятельство заставляло правительство оставаться глухим к прошениям их
порабощенных подданных. Правительство старалось не вмешиваться во
взаимоотношения помещиков с крепостными, поскольку было заинтересовано в
абсолютной власти землевладельца над крестьянами в имении для
исправного внесения ими платежей в государственную казну. После того как Петром I была введена
подушная подать, которой обложили все "неблагородное" мужское население
империи, возникла задача обеспечить исправное получение денег. Для этого
сначала прибегли к чрезвычайно своеобразному способу, придуманному
"царем-реформатором". За каждой военной частью были записаны села и
волости, обязанные ее содержать, а само это военное формирование в
мирное время квартировало в приписанной за ним местности, служа надежной
гарантией своевременного внесения налогов. Польза, по мысли Петра, была
и в том, что необходимые средства на содержание армии должны были
поступать напрямую к тем, для кого они предназначались, минуя
посреднические бюрократические инстанции. На практике осуществление этой идеи
выглядело так, что помимо разорительных расходов на строительство казарм
и обеспечение военных всем необходимым крестьяне страдали от
произвольных поборов, насилий и грабежей, поскольку солдаты не стесняли
себя деликатным обращением с мирным населением. Офицеры
расквартированных в деревнях частей и вовсе относились к сельским
жителям как к собственным крепостным, что служило причиной конфликтов
также с местными помещиками, не желавшими поступаться своими правами. Впоследствии, и очень скоро, от такой
системы взыскания податей отказались, возложив исключительно на
дворян-землевладельцев обязанность следить за безнедоимочным сбором
налогов со своих крестьян. С 1722 года помещики были сделаны
ответственными за выплату крестьянами подушной подати, а также выполняли
целый ряд других функций административно-полицейского характера. Но дворянство использовало расширение
своих полномочий почти исключительно в личных целях, не слишком
ревностно относясь к попечению о государственных интересах. Недоимки по
налоговым сборам копились по многу лет, при этом оброчные деньги и
прочие повинности, которыми крестьяне были обязаны господам, поступали,
как правило, без задержек и в полном объеме. Задолженности возникали также во многом
из-за того, что крестьяне оказывались просто не в состоянии внести
необходимую сумму налога государству. Ведь подушную подать они платили
со своих участков, возделать которые они часто не успевали потому, что
или ежедневно работали на барщине, или собирали средства на господский
оброк. Кроме того, государство требовало от
крестьян выполнения других повинностей, среди которых была обязанность
прокладывать дороги, перевозить на своих лошадях и телегах разнообразные
грузы и проч. Иногда крестьян отрывали от семьи и хозяйства на много
месяцев, отправляя на дорожные или строительные работы. Тяжелый труд
никак не оплачивался правительством, только в редких случаях выдавался
скудный продовольственный паек, но чаще всего и кормиться невольные
строители должны были за свой счет. Помещики вынужденно мирились с таким
отвлечением своих крепостных людей на государственные нужды, но
немедленно после их возвращения домой старались наверстать упущенное,
гнали на барщину, требовали внесения оброка, нередко возросшего за
период отлучки крестьян. При задержке или просьбе об отсрочке -- пороли,
одевали колодки и в прямом смысле слова выколачивали из крепостных
вместе с последними силами все необходимое для дворянского обихода. * * * При всем многообразии, или скорее --
бесконечном числе крестьянских обязанностей, одной из самых тяжелых была
рекрутская повинность. "И ужас народа при слове "набор" подобен был
ужасу казни", -- писал о ней Некрасов, и эти поэтические строки очень
точно передают и отношение к рекрутчине, и ее значение в жизни крестьян,
боявшихся попасть "под красную шапку". О происхождении этого выражения и о
том, как упорно сопротивлялись военной повинности крестьяне, приводит
сведения С.В. Максимов в книге "Крылатые выражения", опубликованной в
1890 г.: "Надевали шапку не красную, а лишь такую, которая не имела
козырька, но в старину действительно всякий сдатчик, ставивший за себя
рекрута, обязан был снабдить его красной шапкой, бердышом и прочим. Совсем еще бодрые с виду и
словоохотливые старики даже и теперь рассказывают про недавние времена
рекрутчины, когда от суровых тягостей 25-летней тугой лямки солдатчины
бегали не только сами новобранцы, но и семьи их. Из "дезертиров"
составлялись в укромных и глухих местах целые артели дешевых рабочих и
целые деревни потайных переселенцев например, в олонецкой Карелии, в
Повенецком уезде близ границ Финляндии). В земских домах водились стулья, в
ширину аршин, в длину -- полтора; забит пробой и железная цепь в сажень.
Цепь клали на шею и замыкали замком. Однако не помогало: бегали удачно,
так что лет по 15 и больше не являлись в родные места. Объявят набор, соберут сходку с каждого двора по человеку, поставят в ширинки на улице. Спрашивает староста... у домохозяев: Где дети? Не знаем. Не находятся рекруты дома, -- сбегли. Не знают родители, где они хранятся. Спросит сам голова у этих отцов и рыкнет: Служба -- надо. Не знаем, где дети -- в бегах... Ступайте на улицу и сапоги разувайте, и одежду скидайте с себя до одной рубашки. И босыми ногами выставят отцов на снег и в мороз. Позябните-ко, постойте: скажете про детей. А если не скажете, не то еще будет. Не знаем, где дети!.. Пошлют поснимать на домах крыши; велят морить голодом скот на дворах... Не знаем, где дети, -- в бегах!.. Прорубали на реке пешней прорубь.
Отступя сажен пять, прорубали другую. Клали на шею родителям веревку и
перетаскивали за детей из проруби в прорубь, как пропаривают рыболовную
сеть в зимние ловли, в" подводку" удочки на поводцах по хребтине с
наживками или блестками, на навагу, сельдь и проч.). И родители на убег. И бегают. Дома стоят пустыми...") Помещик, отдавая своего крепостного
человека в рекруты, получал от казны деньги в качестве компенсации за
потерю рабочих рук, поэтому сдача рекрутов государству была одной из
важных статей дохода в помещичьем хозяйстве. Персонаж комедии Княжнина,
Простодум, говорит про такого "хозяйственного" господина: Три тысячи скопил он дома лет в десяток Не хлебом, не скотом, не выводом теляток, Но кстати в рекруты торгуючи людьми... В распределении между крестьянами
рекрутской повинности господствовал точно такой же произвол, как и во
всех других проявлениях крепостного быта. Лишь немногие помещики
соблюдали подворную очередность при отдаче людей в рекруты, еще реже
распределяли очередь только среди многолюдных крестьянских дворов, а те
между собой -- по числу в них годных к службе мужчин, от большего к
меньшему. Повсеместно дворяне пользовались своей
неограниченной властью над крепостными людьми, не соблюдая никаких
правил, нарушая очереди, хотя бы и установленные сельским обществом --
"MipoM", преследуя только одну цель: соблюдение своей материальной
выгоды или прочих интересов. Нередко целые деревни и села покупались
исключительно для того, чтобы все мужское население продать из них в
рекруты. Не слишком разборчивые в средствах для обогащения торговцы
людьми делали на таких операциях целые состояния. Для других помещиков
сдача крепостных в рекруты была удобной возможностью избавиться от
неугодных. Подобные образцы эгоистического, бытового "тиранства"
встречались едва ли не чаще примеров охоты за коммерческой прибылью.
Мардарий Апполоныч Стегунов, из тургеневских "Записок охотника", с
нескрываемым раздражением говорит про своих "опальных мужиков":
"Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай Бог ему царство
небесное, их не жаловал, больно не жаловал... Я, признаться вам
откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так
рассовывал -- кой-куды; да не переводятся, что будешь делать?.." Солдатская служба была тяжелой. Срок
службы в императорской армии составлял 25 лет. В XIX веке он постепенно
сокращался, но все равно был очень долог. А если оставить в стороне
перекочевавшие в школьные хрестоматии старинные анекдоты о заботливых
"отцах-командирах", то настоящий быт рядовых русских "чудо-богатырей", с
выбритыми на рекрутских станциях лбами, окажется чрезвычайно мрачным. Учитывая жесткое разделение низших и
высших военных чинов по сословному принципу, а также известную
особенность армейской среды сохранять и усиливать существующие в
гражданском обществе социальные пороки, очевидно, что отношения
"офицер--рядовой" строились во многом по принципу "помещик--крепостной".
Отец знаменитого в истории русской Гражданской войны генерала П.Н.
Врангеля, барон Н.Е. Врангель, чье детство пришлось на годы перед
отменой крепостного права, вспоминал о военных порядках эпохи императора
Николая I: "Кнутом и плетьми били на торговых площадях, "через зеленую
улицу", т. е. "шпицрутенами", палками "гоняли" на плацах и манежах. И
ударов давалось до двенадцати тысяч..." При предшественниках Николая на
плети и розги для солдатских спин не скупились тем более. Отдача в солдаты была одним из самых
распространенных и, одновременно, жестоких способов наказания для
крепостных. Но некоторым из них, особенно дворовым, она казалась все же
предпочтительнее службы в господском доме. Радищев приводит пример
такого новобранца, выглядевшего бодрым и даже веселым среди толпы
согнанных из окрестных сел рекрутов и рыдающей родни: "Узнав из речей
его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать
причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он
ответствовал: -- Если бы, государь мой, с одной
стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между
двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю
или в воду, что избрали бы вы?.. Я думаю, да и всякий другой избрал бы
броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой брег, опасность уже
минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своею шеею.
Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы
и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под
батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу,
жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете
вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему,
они чувствительности не лишены". Формально, по существовавшим законам, на
военную службу могли быть призваны представители всех податных
сословий. Закон разрешал откупаться от рекрутской обязанности только
купцам, но службы в армии часто избегали и мещане, и государственные
крестьяне. Поступали так: у помещика выкупали крепостного, получив себе
на руки вольную грамоту на него, приписывали к своей волости и после
этого, решением "Mipa", сдавали в солдаты. Другим способом избежать
рекрутчины было выставить за себя "охотника", тоже из крепостных людей.
Но "охотник" или доброволец должен был быть вольным человеком. Поэтому
помещик, получая за него от покупателя деньги, подписывал отпускной
лист, который выдавал на руки покупателю, тайно от "охотника". Когда
обманутого таким образом "добровольца" приводили в рекрутское
присутствие, ему умышленно не сообщали о том, что он теперь свободен и
вправе отказаться от поступления в солдаты, хотя правила требовали от
чиновников оглашения этого обстоятельства. Схемы таких "операций" были отработаны
до мелочей и повторялись по всей стране при каждом рекрутском наборе. Д.
Свербеев, автор любопытных мемуаров, писал, что, к его огорчению, подобными махинациями не брезговали господа, известные и богатством, и
гуманностью, и образованностью: "Все подробности таких проделок узнал я
от одного из торгующих людьми господ, можайского помещика князя
Крапоткина, который прй мне на дому у председателя можайского
рекрутского присутствия просил его и тут же меня принять охотником
проданного им человека одному волостному голове государственных
крестьян. Председатель изъявил свое полное на то согласие, я тоже
согласился, но имел глупость предупредить тут же князя, что я потребую
отпускную, отдам ее охотнику в руки и прибавлю, что он может теперь идти
или не идти в рекруты. -- Помилуйте, вы так все мое дело испортите, --
отвечал с раздражением князь, и рекрут-охотник представлен к нам не был,
его свезли в Москву, в губернское присутствие, где без дальнейших
объяснений его и приняли". Если немногим невольникам, стремившимся
вырваться на свободу любым способом, служба в армии могла казаться
привлекательной, то для абсолютного большинства крестьян она была часто
действительно страшнее смерти. В любом случае предстоящие 25 лет
солдатчины означали для рекрута конец прежней жизни, обрыв всех личных
связей. Дворяне часто отдавали в солдаты
семейных крестьян, разлучая их с женой и детьми. Причем закон оставлял
рожденных до ухода отца в армию в собственности помещика, а их
мать-солдатка, как называли жену новобранца, становилась свободной от
господина. Но такая норма выглядела скорее издевательством. Солдатка,
даже овдовев, чаще всего не имела возможности воспользоваться своей
свободой. Весь образ жизни, маленькие дети, отсутствие минимальных
материальных средств для начала новой жизни удерживали ее на прежнем
месте. Но там положение женщины, оставшейся без поддержки мужа в доме
свекра, становилось еще тяжелее, чем прежде. Она выполняла самые трудные
работы, терпела побои и брань, и, по грустному свидетельству очевидца,
"слезами и кровью омывала каждый кусок хлеба". Народ к службе в императорской армии
относился не лучше, чем к каторге, но и власть отправляла на службу
новобранцев, как каторжных преступников. По отзыву М. Салтыкова-Щедрина,
"обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское присутствие совершался
самым коварным образом. За намеченным субъектом потихоньку следили, чтоб
он не бежал или не повредил себе чего-нибудь, а затем в условленный
момент внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги колодки и
сдавали с рук на руки отдатчику". Будущего "защитника отечества", надев на
него ручные и ножные кандалы, запирали в сарае или в бане до отправки в
военное присутствие. Делалось это для того, чтобы предотвратить побег, и
подобные предосторожности были не лишними. Люди, обреченные на 25 лет
военной каторги, делали все возможное для того, чтобы спастись. Бежали
при всяком удобном случае -- из-под стражи, или позже, несмотря на
забритый лоб. Часто крестьяне, назначенные в рекруты, калечили себя,
чтобы их признали негодными к военной службе. На этот случай
законодательство предусмотрело карательные меры: тех, кто после
нанесения себе увечий, сохранял способность обращаться с оружием,
предписывалось наказывать шпицрутенами, прогнав сквозь строй из 500
человек три раза, и после излечения забирать в армию. Тех же, кто
остался после членовредительства негодным к строевой службе, ссылали на
пожизненные каторжные работы. Писательница Елизавета Водовозова,[9] в детстве ставшая свидетельницей сдачи в рекруты одного из крепостных
крестьян, принадлежавших ее матери, оставила описание этой сцены,
запомнившейся ей на всю жизнь: "В эту ночь сторожа не могли задремать ни
на минуту: несмотря на то что вновь назначенный в рекруты был в
кандалах, они опасались, что он как-нибудь исчезнет с помощью своей
родни. Да и возможно ли было им заснуть, когда вокруг избы, в которой
стерегли несчастного, все время раздавались вой, плач, рыдания,
причитания... Тот, кто имел несчастье хотя раз в жизни услышать эти
раздирающие душу вопли, никогда не забывал их... Чуть-чуть светало. Я пошла туда, откуда
раздавались голоса, которые и привели меня к бане, вплотную окруженной
народом. Из единственного ее маленького окошечка по временам ярко
вспыхивал огонь лучины и освещал то кого-нибудь из сидевших в бане, то
одну, то другую группу снаружи. В одной из них стояло несколько
крестьян, в другой на земле сидели молодые девушки, сестры рекрута; они
выли и причитали: "Братец наш милый, на кого ты нас покинул, горемычных
сиротинушек?.." В сторонке сидело двое стариков: мужик и баба --
родители рекрута. Старик вглядывался в окно бани и сокрушенно покачивал
головой, а по лицу его жены и по ее плечам капала вода: ее только что
обливали, чтобы привести в чувство. Она не двигалась, точно вся застыла в
неподвижной позе, глаза ее смотрели вперед как-то тупо, как может
смотреть человек, уставший от страдания, выплакавший все свои слезы,
потерявший в жизни всякую надежду. А подле нее молодая жена будущего
солдата отчаянно убивалась: с растрепавшимися волосами, с лицом,
распухшим от слез, она то кидалась с рыданием на землю, то ломала руки,
то вскакивала на ноги и бросалась к двери бани. После долгих просьб
впустить ее дверь наконец отворилась, и в ней показался староста Лука:
"Что ж, молодка, ходи... на последях... Пущай и старики к сыну идут!.." Эта ужасающая сцена отдачи врекруты много лет приходила мне на память, нередко смущала мой покой,
заставляла меня ломать голову и расспрашивать у многих, кто же виновен в
том, что у матери отнимают сына, у жены -- мужа и отвозят в
"чужедальную сторонушку"?" * * * Еще в 1764 году монастырям запретили
владеть населенными имениями, отписав в казну более миллиона крестьян.
Они получили, название "экономических" и на деле ничем не отличались от
крестьян казенных, или государственных, чья жизнь все-таки была намного
легче, чем у принадлежавших помещикам. Однако с самого момента их изъятия из
ведения церковных вотчинников дворянами предпринимались попытки получить
этих людей в свое распоряжение. Кажется, престарелая Екатерина уже
готова была выполнить настойчивые просьбы душевладельцев и одарить их
сотнями тысяч новых невольников, но этому помешала смерть императрицы. Вступление на престол Александра I
сопровождалось слухами о том, что новый самодержец, сторонник
либеральных идей и противник рабства, поклялся не отдавать больше людей в
собственность другим людям. Действительно, в правление этого императора
новые пожалования "душами", на которые так были щедры его
предшественники, были прекращены, и отныне крепостное состояние лица
могло возникать только по рождению от крепостных родителей. Вольные
крестьяне, экономические и казенные, благословляли великодушного
государя, избавившего их от вечного страха в любой момент, по одному
росчерку монаршего пера, потерять все личные и имущественные права, и
самим превратиться в частную собственность какого-нибудь помещика.
Казалось, теперь они могли уверенно смотреть в будущее и не бояться за
участь своих детей. Но скоро они убедились, что
государственное рабство может быть ничуть не легче дворянского, и что их
"свободное состояние" -- лишь иллюзия, которую очень легко разбить. Во многом именно привычка видеть в
крестьянах, вне зависимости от того, принадлежат они казне или помещику,
не живых людей, а только безликую рабочую силу, обязанную выполнять
любую прихоть господина, сделала возможным практическое воплощение идеи
создания так называемых военных поселений. Как сократить расходы на армию, не
сокращая ее численно? -- ответ на этот извечный вопрос представился
российскому самодержцу очевидным: нужно было отказаться от устаревшего
принципа содержания армии на государственный счет и просто заставить
солдат обеспечивать самих себя. А их детей записывать в солдаты. И тогда
получалась армия, которая сама себя воспроизводит и кормит. Идея показалась Александру настолько
блестящей и эффективной, что он не желал слушать никаких
предостережений. На все возражения достойный сын Павла I отвечал, что
ради осуществления своего плана он готов устлать трупами дорогу "от
Петербурга до Чудова" на сто верст, до границы первого военного
поселения. По поводу такого свирепого намерения современник императора
заметил: "Александр, в Европе покровитель и почти корифей либералов, в
России был не только жестоким, но что хуже того -- бессмысленным
деспотом". Как ни велик был страх перед рекрутской
повинностью, но действительность военных поселений оказалась еще
тяжелее. По желанию императора сотни тысяч крестьян в одно мгновение
были обращены в солдат, а их дома обрели вид казармы. Взрослых семейных
мужиков заставляли сбривать бороды, менять привычную им традиционную
русскую одежду на военный мундир. Быт поселенцев также устроен был по
образцу казармы -- строго регламентированное время пробуждения и отхода
ко сну, регулярные строевые занятия на плацу, обучение ружейным приемам и
проч. Из отведенных под военные поселения местностей зачислению на
службу подлежали все лица мужского пола от 18 до 45 лет, а их дети с
возраста от 7 и до 18 лет проходили обучение в группах кантонистов,
откуда также поступали в строй. Уволенные "в запас" не имели возможности
заняться устройством своего быта, а должны были выполнять
вспомогательные работы в поселении. Строевая служба не только не освобождала
военных поселян от сельских работ, но вменялась им в
обязанность--именно в этом и была основная задумка императора. Не менее
половины урожая "строевой" крестьянин должен был сдавать в полковое
хранилище. Но оставшаяся часть произведенного также шла во многом на
казенные нужды. Обыкновенно в каждый крестьянский двор подселялось еще
по двое-трое переведенных из регулярной армии солдат, которых военный
поселянин должен был кормить, а они, по замыслу правительства, --
помогать ему в ведении хозяйства. Сомнительная польза от насильственного
подселения непривычных к сельскому труду холостых солдат в крестьянскую
семью, в которой было немало женщин, была очевидна всем, кроме
императора и его ближайшего помощника в этом деле, графа А. Аракчеева. В
результате и урожаи, и боевая подготовка, и состояние нравственности в
военных поселениях были неудовлетворительными. Среди офицеров, а
отправляли в такие поселения далеко не лучших, обычным делом было
воровство крестьянского и казенного имущества, грубость. "Экзекуции",
всевозможные телесные наказания над измученными крестьянами
производились едва ли не ежедневно. Доведенные до полного отчаяния люди
обращались к императору, моля его взглянуть своим "человеколюбивым оком"
на их нужду. Ответа от императора не приходило, и тогда поселенцы
начинали бунтовать. В этих случаях императорское правительство
реагировало немедленно и жестко. Как поступала власть с возмутившимися
против своей участи крестьянами, можно себе представить из записок
декабриста Дмитрия Якушкина: "Казенные крестьяне тех волостей, которые
были назначены под первые военные поселения, возмутились. Граф Аракчеев
привел против них кавалерию и артиллерию; по ним стреляли, их рубили,
многих прогнали сквозь строй, и бедные люди должны были покориться.
После чего объявлено крестьянам, что домы и имущество более им не
принадлежат, что все они поступают в солдаты, дети их в кантонисты, что
они будут исполнять некоторые обязанности по службе и вместе с тем
работать в поле, но не для себя собственно, а в пользу своего полка, к
которому будут приписаны. Им тотчас же обрили бороды, надели военные
шинели и расписали по ротам..."
5 
Глава III. Усадьба и ее обитатели: дворяне и дворовые люди
Все они были господами, Начальниками над нами. Они были за судей, Нас не чтили за людей, Крепостными нас имели, Сами смачно пили, ели, Роскошничали, гуляли, Нас на скотину меняли... Из народных песен Одним из самых значительных последствий
петровских преобразований стала перемена в нравах и обычаях. Но семена
европейской культуры на российской почве, которые так неукротимо
насаживал царь-реформатор, дали причудливые и не всегда удачные всходы.
Отвыкая от своего традиционного образа жизни, чужое усваивали
поверхностно, потребительски. Насколько неудачен оказался опыт прививки
иноземной культуры, подтверждают свидетельства современников, в том
числе -- иностранцев, наблюдавших внуков и правнуков петровских
"птенцов". Ш. Массон в конце XVIII столетия отозвался о русской знати,
представителей которой имел возможность наблюдать лично, что цивилизацию
в них заменила развращенность. Спустя почти еще полвека, в 1839 году,
маркиз де Кюстин писал: "Здесь, в Петербурге, вообще легко обмануться
видимостью цивилизации... Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я
порицаю в них притязание казаться теми же, что и мы. Они еще совершенно
не культурны". Из достижений западной культуры
заимствовали в первую очередь то, что делало приятным и комфортным быт,
хотели не учиться, а спешили потреблять, тем более что даровой труд
крепостных крестьян давал все возможности для удовлетворения любых
прихотей. Замечательно точную характеристику типа русского дворянина,
каким он сложился к началу XIX века, дает В.О. Ключевский: "С книжкой
Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот
дворянин представлял очень странное явление: усвоенные им манеры,
привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, -- все
было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых
органических связей с окружающими... Чужой между своими, он старался
стать своим между чужими, и, разумеется, не стал: на Западе, за
границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели
как на случайно родившегося в России француза..." Таков был итог процесса европеизации, а
скорее -- деру сификации, затронувшего все слои российского общества без
исключения, но более всего отразившийся на облике высшего сословия.
Начало этому, по оценке известного консерватора екатерининских времен
князя М. Щербатова, было положено именно в период реформ Петра, а при
его ближайших преемниках получило уже полное развитие, когда "искренняя
привязанность к вере стала исчезать... роскошь и сластолюбие положили
основание своей власти. Вельможи изыскивали в одеянии все, что
есть богатее, в столе все, что есть драгоценнее, в пище, что реже, в
услуге возобновя многочисленность служителей... Екипажи возблистали
златом... домы стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всех
комнатах, дорогими меблями, зеркалами и другими". Щербатов, живший в сластолюбивый и
чрезвычайно распущенный екатерининский век, оставался человеком еще
старой закваски. Среди небольшого числа вельмож похожего склада и бывших
исключением из общего числа царедворцев является и князь Дмитрий
Михайлович Голицын. На примере его подмосковной родовой усадьбы
Архангельское, или как она значилась в документах -- "Уполозы тож",
можно проследить за изменением нравов и быта представителей придворной
знати. Еще в 40-е годы XVIII столетия, время
правления императрицы Анны Иоанновны, княжеский дом в Архангельском
состоял всего из трех комнат, собственно -- отдельных срубов,
соединенных сенями. Интерьеры этого жилища также были незатейливы: в
красном углу иконы с неугасимой лампадкой, вдоль стен лавки, изразцовая
печь, дубовый стол, четыре кожаных стула, еловая кровать "в пестрядинных
и выбойчатых наволоках". На огороженном невысоким решетчатым забором
дворе уместились баня, хозяйственные постройки -- ледники, амбар,
поварня. Главной достопримечательностью усадьбы была каменная церковь
Архангела Михаила. Большие перемены ожидали эту скромную
усадьбу после того, как вдова одного из наследников князя Д. Голицына
продала Архангельское князю Н.Б. Юсупову. При новом владельце
складывается во многом тот вид усадебного комплекса, каким он сохранился
до наших дней. Юсупов начал с того, что велел вырубить
лес, и на расчищенном месте выстроил роскошный дворец со множеством
комнат, с колоннадой и двумя павильонами. В Архангельском появляется
картинная галерея с работами Веласкеса, Рафаэля, Давида и других
известнейших художников. Один только домашний театр в усадьбе мог с
комфортом вместить 400 зрителей. Сюда, в гости к Юсупову, приезжали
высочайшие особы в сопровождении иностранных послов, сотен придворных и
прислуги, и для всех находилось место. О роскошных празднествах в
Архангельском, театральных представлениях и пирах ходили легенды. Прошло
немного времени, но ничто уже не напоминало о прежнем скромном быте при
Д. Голицыне. Вельможи соперничали друг с другом в
роскоши, и едва ли не первое место в этом соревновании тщеславий
принадлежало графу Петру Борисовичу Шереметеву, сыну петровского
фельдмаршала. Его состояние, и без того немалое, значительно увеличила
выгодная женитьба на единственной дочери известного богача князя A.M.
Черкасского. От этого брака из рода Черкасских во владение Шереметева
перешли обширные поместья: Перово, Вишняки, Жулебино, Останкино, а
вместе с ними -- более 80 000 крепостных "душ". В Кусково по желанию графа построили
дворец, ныне утраченный, но поражавший современников величиной и
убранством. Помнившие его признавали, что "теперешний дом и сад Кускова
только остатки прежнего великолепия... В одной комнате стены были из
цельных венецианских зеркал, в другой обделаны малахитом, в третьей
обиты драгоценными гобеленами, в четвертой художественно разрисованы не
только стены, но и потолки; всюду античные бронзы, статуи, фарфор,
яшмовые вазы, большая картинная галерея с картинами Рафаэля, Ван Дейка,
Кореджио, Веронезе, Рембрандта; в некоторых комнатах висели люстры из
чистейшего горного хрусталя... Замечательны также были в кусковском доме
огромная библиотека и оружейная палата; в последней было редкое
собрание древнего и нового оружия: английские, французские, испанские,
черкесские, греческие и китайские ружья, дамасские сабли, оправленные в
золото и осыпанные драгоценными камнями... В саду Кускова было 17
прудов, карусели, гондолы, руины, китайские и итальянские домики,
каскады, водопады, фонтаны, маяки, гроты, подъемные мосты". Величественные дворцы вельмож
обыкновенно строились на возвышенных местах, на живописных берегах рек
или озер, господствуя над округой и помогая своим хозяевам входить в
образ державного властелина. Эта забава была чрезвычайно распространена
тогда среди знати. Иметь собственный двор, собственных фрейлин,
камергеров и статс-дам, гофмаршалов и шталмейстеров казалось престижным,
тешило самолюбие, опьяняло ощущением неограниченной власти. Один из
князей Долгоруковых любил сиживать перед гостями, да нередко и в
одиночестве, на раззолоченном троне, сделанном по образцу
императорского. Свиту таких тщеславных бар составляли
дворовые слуги, для которых шились платья и выделывались аксессуары,
полностью соответствующие настоящим, принятым при дворе в Петербурге.
Иные предпочитали покупать для своих крепостных "фрейлин" и "камергеров"
поношенные оригинальные костюмы, отслужившие свой век в столице на
плечах настоящих придворных. По торжественным дням устраивались балы.
В имении вельможи князя Голицына, например, по описанию очевидца это
происходило так: "В ярко-освещенный зал собирались приглашенные, и когда
все гости были в сборе, собственный княжеский оркестр играл
торжественный марш, и под звуки его князь выходил в зал, опираясь на
плечо своего гофмейстера. Бал открывался полонезом, причем хозяин шел с
своею статс-дамою, которая предварительно целовала его руку..." В
приведенном описании самые важные слова -- "свой", "своя" и
"собственный". В этой автономной "самодержавности" -- главная черта быта
русских бар. Помещики богатые и знатные, или
желавшие, чтобы так думали о них другие, старались возвести обширный
каменный дом, окружив его множеством также каменных пристроек, флигелей,
колоннад, оранжерей и теплиц. Дом окружали сад с прудами и парк,
регулярный или пейзажный, в зависимости от вкусов и средств владельца.
Среди деревьев белели статуи в античном стиле, а нередко и памятники.
Историки дворянского быта начала XIX столетия отмечают, что в то время
вообще была мода таким монументальным образом увековечивать память
родственников, друзей или благодетелей. В имении фаворита Павла I, князя
Куракина, памятники этому императору стояли не только в парке, но почти
в каждой комнате обширного дворца. Однако другой любимец Павла, граф
Аракчеев, сумел все же превзойти Куракина в доказательствах своей любви к
державному покровителю, не побоявшись святотатства и поместив
императорское изваяние прямо в домовой церкви. В усадьбе П. Завадовского
долгое время возвышалась пугавшая своим грозным видом крестьянских
детей огромная статуя графа Румянцева, воздвигнутая владельцем в знак
благодарности фельдмаршалу за оказанные милости. Величина усадебного дома и роскошь,
окружавшая его, зависели от состояния помещика, а оно могло
формироваться разными способами. Одним из источников средств для
существования "благородного" человека была служба, а вернее --
злоупотребления на ней, попросту говоря -- воровство. Грешили этим почти
все, только в разном масштабе, от уездного стряпчего до
генерал-губернатора и министра. Пример давали знатнейшие вельможи и
временщики, окружавшие трон в эпоху "царства женщин". Фавориты
присваивали себе государственные средства многими миллионами рублей,
практически не делая разницы между собственным кошельком и российской
казной. Кто не служил, тот старался выгодно
жениться или получить наследство. Но, так или иначе, для большинства
поместного дворянства главным и нередко единственным источником
благосостояния были крепостные "души"; от их числа зависели также
общественный вес и значение владельца. Впрочем, настоящих богачей, считавших
своих крестьян десятками тысяч, а вернее сказать -- не знавшим им счета,
было все-таки немного. Следом за аристократами тянулись дворяне
помельче и победнее. Беспощадно напрягая последние силы своих крестьян и
ставя хозяйство на грань разорения, они из тщеславия и ложно понимаемой
сословной чести старались не отстать от знати. Наблюдательный
современник сокрушался о том, что прежде помещики жили в своих деревнях
бережливо и скромно, а теперь стремятся к роскоши, завели обычай строить
дворцы и украшать их дорогой обстановкой, окружать себя множеством
слуг, "не жалея себя и крестьянства". И все же быт и жилища большинства дворян
оставались вынужденно скромными и непритязательными. В отличие от
вельможной усадьбы, выраставшей на возвышенном берегу и господствовавшей
над округой, дом небогатого помещика ютился в лощине, чтобы защититься
от ветров и стужи. Стены были ветхие, оконные рамы в щелях, окна -- в
трещинах. Такой убогий вид многие усадьбы сохраняли на протяжении почти
полутора веков, не меняясь за все время от второй четверти XVIII и до
середины XIX века. Причиной была, конечно, бедность, которую хозяева не
могли преодолеть даже нещадной эксплуатацией труда крепостных. Усадьба известного мемуариста Андрея
Болотова в 50-е годы XVIII столетия представляла собой все то же
строение о трех светлицах, весьма напоминавшее дом князя Д. Голицына в
Архангельском. Разница была только в добротности и крепости постройки --
у Болотова все было ветхим. Одноэтажный домик без фундамента почти по
самые крохотные окна врос в землю. Из трех комнат наибольшая -- зала,
была неотапливаема и потому почти необитаема. Из мебели в ней стояли
скамьи по стенам, да стол, покрытый ковром. Другие комнаты были жилыми.
Огромные печи так жарко натапливались зимой, что при недостатке свежего
воздуха форточек не было и окон не открывалис обитателями случались
обмороки. От обморока отходили, и топили опять, следуя правилу, что "жар
костей не ломит". Правый угол заставлен иконами, из мебели -- стулья и
кровать. Вторая комната совсем небольшого размера, выполняла
одновременно роль и детской, и лакейской, и девичьей, смотря по
надобности и обстоятельствам. Прошло почти сто лет, и вот какой
предстает в описании современников обыкновенная дворянская усадьба
середины XIX века: помещичий дом разделен простыми перегородками на
несколько маленьких комнат, и в таких четырех-пяти "клетушках" обитает,
как правило, многочисленная семья, включающая в себя не только несколько
человек детей, но также всевозможных приживалок и непременно дальних
бедных родственников, среди которых встречались незамужние сестры
хозяина или престарелые тетушки, а кроме того -- гувернантки, нянюшки,
горничные и кормилицы. Часто бывавшая в таких дворянских "гнездах"
мемуаристка Е.Н. Водовозова вспоминает: "Приедешь, бывало, в гости, и
как начнут выползать домочадцы, -- просто диву даешься, как и где могут
все они помещаться в крошечных комнатках маленького дома". Обитателям такой скромной усадьбы
великолепный быт вельмож казался сказочным, ему даже не завидовали -- о
нем слагались легенды. Зависть, смешанную с почтением, скорее испытывали
к соседям, жившим не роскошно, но действительно зажиточно. Именно такие
достаточные помещики со своими усадьбами и стали символом всей эпохи
крепостного права. В усадьбе "средней руки" бывало сто,
двести и более крестьянских дворов, в которых жили от нескольких сот до
1-2 тысяч крепостных крестьян. Дом владельца находился на небольшом
отдалении от села, иногда рядом с церквовью. Был он просторным, но чаще
всего деревянным, двухэтажным и непременно с "залой" -- для приема
гостей и танцев. Двор, как и в старину, занимали хозяйственные
постройки: кухня, людские избы, амбары, каретный сарай, конюшня. В
некоторых имениях строили новый дом, не снося прежнего. Он
предназначался для семьи старшего сына или для жены хозяина, почему-либо
не желавшей жить под одной крышей со своим супругом. В Архангельском,
еще в то время, когда оно принадлежало Голицыным, появился дом, который
прозвали "Капризом". Об истории его возникновения рассказывали, что
построить его велела княгиня после крупной ссоры с мужем. Новый дом, в отличие от старого, в
котором десятилетиями сохранялся дух прежнего времени, охотнее украшали
изящной мебелью, зеркалами, картинами. Какого рода была эта живопись,
можно представить себе по описанию провинциального помещичьего дома,
оставленному И.С. Тургеневым: "Всё какие-то старинные пейзажи да
мифологические и религиозные сюжеты. Но так как все эти картины очень
почернели и даже покоробились, то в глаза били одни пятна телесного
цвета -- а не то волнистое красное драпери на незримом туловище, или
арка, словно в воздухе висящая, или растрепанное дерево с Голубой
листвой, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с суповой
чаши, взрезанный арбуз с черными семечками, чалма с пером над лошадиной
головой..." * * * Важное место среди картин в дворянской
усадьбе занимали фамильные портреты. Многие из них сохранились до наших
дней, и сегодня есть возможность вглядеться в лица людей, не просто
живших в эпоху крепостного права, но во многом своими характерами и
страстями сделавшими ее такой, какой она была и запомнится навсегда в
истории России. Е. Сабанеева[10] так передавала виденный ею в детстве на стене гостиной портрет своего
прадеда, Алексея Прончищева, калужского помещика: "Прадед изображен в
мундире секунд-майора екатерининских времен. Надо лбом волосы взбиты и
слегка напудрены, затем падают длинно по плечам. Лоб высокий, глаза
карие, брови слегка сдвинуты над переносьем, линия носа правильная и
породистая, углы рта, нагнутые немного вниз, придают лицу выражение не
то презрительное, не то самоуверенное". О Прончищеве говорили, что он был
красавец, но при этом мемуаристка отчетливо помнит, что каждый раз,
упоминая о прадедушке, люди невольно понижали голос, словно боялись,
"что он с того света услышит их"; а ее мать прямо сказала однажды:
"Слава Богу, что этого красавца нет более в живых..." Все эти недомолвки удивляли ребенка и
возбуждали любопытство. Позднее девочка из рассказов старых дворовых о
"дедовских деяниях" смогла представить себе настоящий образ этого
человека и понять чувство неприязни, которое он возбуждал к себе даже
много лет спустя после смерти. Причина была в характере Прончищева,
"жестком, неукротимом и деспотичном". Сабанеева пишет: "Много
рассказывала матушка о горькой жизни в Богимове при прадедушке, она
говорила, что тогда в доме была -- бироновщина!" Мемуаристка застала в живых старушку,
бывшую у ее прабабушки, супруги Алексея Ионовича, сенной девушкой.
Пелагея, так звали ее, была тихой и набожной, только кривой на один
глаз. Сабанеева вспоминает: "Будучи ребенком, бывало, спросишь ее: Пелагеюшка, отчего у тебя глазок кривой? Это, сударыня-барышня, -- отвечает она, -- прадедушка ваш Алексей Ионович изволили выколоть..." Жила в Богимове и юродивенькая Дарья, странности у которой начались с тех пор, как прадедушка мемуаристки ее "чем-то напугал". А то еще приснилось барину, что зарыт
где-то на его землях большой клад. К поиску приснившихся сокровищ
Алексей Ионович отнесся обстоятельно. По его приказу богимовские
крепостные крестьяне были согнаны со своих участков и в течение
полугода, забросив хозяйство, отыскивали местонахождение клада, перерыв
едва ли не всю округу. О результатах вспоминали старики, что барин
ничего, конечно, не нашел, "а народу много заморил". Подобных чудачеств и
"тиранства" было немало. Но печальная память о хозяине осталась
не только среди слуг. Супруга Алексея Прончищева, Глафира Михайловна,
женщина добрая и кроткая, в молодости лишилась рассудка. Произошло это в
результате какой-то семейной драмы, подробности которой столь
отвратительны, что Сабанеева не решилась привести их в своих записках.
Она пишет только, что умопомешательство прабабушки произошло оттого, что
прадедушка ее чем-то "сильно оскорбил". Что это были за "оскорбления", можно
узнать из множества других воспоминаний очевидцев о том, какие нравы
господствовали в помещичьих семьях. Сельский священник рассказал в своих
записках, как знакомый ему помещик Лачинов обращался со своей женой.
Лачинов, мужчина крепкого сложения, напившись пьян, имел обыкновение
вытаскивать барыню во двор к колодцу, раздевать ее догола и обливать
ледяной водой. Потом он едва живую женщину пинками заталкивал в конюшню и
там, велев лакеям держать ее, принимался пороть розгами, причем
приговаривая: "Вот я тебя согрею, вот я тебя согрею!" Рассказчик
продолжает: "Или изорвет на ней все дочиста, привяжет к столбу, да и
примется с кучером в две розги. Если увидит, что кучер сечет легко, то и
начнет хлестать его комлем розги по рылу. Сорвавши на ней и на кучере
зло, отвяжет и погонит, также нагою, в дом. Несчастная споткнется,
упадет, а он начнет ее подстегивать с обеих сторон, пока она, на
четвереньках, не доползет до жилья..." Завершает священник свой рассказ
характерным замечанием: "Много ли в то время было не лачиновых? Все
почти помещики были лачиновыми, если не по отношению к женам, то
непременно по отношению к крестьянам". Не будет преувеличением сказать, что в
прошлом почти каждой помещичьей семьи можно отыскать примеры жестокого
деспотизма со стороны хозяина по отношению к близким, доходившие нередко
до уровня настоящих уголовных преступлений. В этом смысле признание
А.С. Пушкина о подобных случаях из биографии его предков только
подтверждают их обыкновенность в дворянской среде. Поэт писал: "Прадед мой Александр
Петрович был женат на меньшой дочери графа Головина, первого
андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия
зарезав свою жену, находившуюся в родах... Дед мой был человек пылкий и
жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе,
заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с
французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально
повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно
от него натерпелась. Однажды он велел ей одеться и ехать с ним куда-то в
гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не
смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру
остановиться, и она в карете разрешилась чуть ли не моим отцом... Все
это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорил о странностях
деда, а старые слуги давно перемерли". Образы шальных русских бар нередко
окружены ореолом ностальгической грусти по старому времени. В
действительности же эти проявления "страшных бурь неукротимой
вспыльчивости", которые иногда пытаются представить как проявления
"благородного" характера, были следствием распущенности и привычки к
совершенно бесконтрольной власти над другими людьми. Дедушка писательницы Водовозовой,
разгневавшись за что-то на свою жену, ссылает ее с глаз долой на
затерянный в степи хутор, куда вообще отправлял без различия всех
провинившихся крестьян, дворовых слуг или членов семьи. Причем
Водовозова вспоминала, что для того, чтобы еще чувствительнее унизить
супругу, "дедушка в день ее отъезда встал с рассветом и, увидав на дворе
телегу, в которой обыкновенно вывозили навоз, закричал на весь двор
так, чтобы его могли услышать все крестьяне, находившиеся там: "В этой
телеге вы вывозите навоз из хлевов, а сегодня будете вывозить навоз из
моего дома!" И он приказал запрячь в навозную телегу рабочую лошадь и
везти свою жену в Васильково. Затем, подозвав к крыльцу двух дворовых,
которые должны были везти Марью Федоровну, он под угрозою строгого
наказания запретил им класть на подводу какие бы то ни было вещи, кроме
ее двух сундуков с одеждою. Когда одна из "девок" пробежала мимо него с
подушками, не зная, что и это запрещено класть на воз, дедушка ударил ее
по щеке со всей силы, вырвал у нее подушки и бросил их на землю..." Одна тульская помещица во время обеда
регулярно приказывает пороть перед собой повариху, причем не за скверную
стряпню, а потому, что это зрелище возбуждает в ней аппетит; екатеринославский помещик Засимович, "ведя нетрезвую жизнь", угрожает
своим детям и прислуге смертью, гоняясь за ними с кинжалом, наконец
стреляет в своего 15-летнего сына из ружья, заряженного дробью, нанеся
ему в грудь десять ран; помещицы сестры Пугачевские, принуждая некоторых
из своих крестьян к интимной близости, затем собственноручно лишают
жизни рожденных от этой связи детей... Портретная галерея таких
дворянских типов в истории русского крепостного права неисчерпаема. Деспотизм был свойствен не только
мужчинам-помещикам. Как видно, барыни, когда в их руках оказывалась
власть над другими людьми, вели себя не лучше, а временами и
превосходили в тиранстве своих мужей, братьев и отцов. Французский
путешественник писал об этом: "Русские дамы проводят время, окруженные
рабами, которые готовы не только исполнять, но и угадывать каждое их
желание... Вдовам и совершеннолетним девицам часто приходится управлять
именьями, где, как стадо, живут их крепостные, то есть их собственность,
их добро. Покупка, продажа и мена рабов, распределение между ними
работы, наконец, присутствие при сечении -- в России многим женщинам
приходится часто заниматься этим, и некоторым это доставляет
удовольствие". * * * Вопреки распространенному мнению,
уровень образования русских дворян в общем был невысоким. Большинство из
помещиков XVIII столетия если и учились в детстве, то, как
говорилось, -- "на медные деньги". Сельский дьячок обучал дворянского
недоросля грамоте, читать и писать по Псалтири -- и такими скромными
результатами ограничивались успехи в образовании многих "благородных"
отпрысков. Этого им казалось достаточно. Ведь полученных знаний было
довольно для того, чтобы жениться[11] и потом, в конце жизни, поставить свою подпись под завещанием. Несколько иное положение занимали те,
чьи родители были свободнее в средствах, особенно из числа столичного
дворянства, понимавшие необходимость образования, и в том числе знания
иностранных языков, для успешной карьеры при дворе или на
государственной службе. Однако отцы, получившие скверное воспитание при
Анне и Елизавете, оказывались не слишком требовательными в подборе
хороших учителей для своих детей. Так в гувернеры в дворянские дома
попадали всевозможные авантюристы -- бывшие солдаты, парикмахеры или
просто бродяги, единственным педагогическим аттестатом для которых было
иноземное происхождение, по преимуществу французское или немецкое. Неразборчивость и слепое доверие ко всему иностранному приводили к
курьезным ситуациям. Известен случай, когда богатый родитель нанял для
сына гувернера, думая, что он француз. Отрабатывая господские стол и
деньги, тот честно преподавал ученику язык своей родины. Впоследствии,
когда питомец его захотел блеснуть парижским произношением, выяснилось,
что говорит он по-чухонски, потому что гувернер его оказался --
уроженцем Финляндии. А. Радищев передавал одиссею одного из
множества таких искателей приключений. В Париже он учился
"перукмахерству", затем выехал в Россию с каким-то господином и "чесал
ему волосы целый год". Затем оставил его, поскольку тот не платил ничего
за услуги, устроился матросом на российский корабль. В Любеке, очевидно
выпив лишнюю кружку пива, попал в руки прусских вербовщиков и служил
несколько лет в армии прусского короля. Бежал, вернулся в Россию и,
умирая там от голода, встретил неожиданно знакомых соотечественников,
научивших его, как поправить свои дела. Они советовали ему искать в
Москве места учителя. На возражения бродяги, что он сам не только что
писать, но и читать умеет с трудом, ему отвечали: "Ты говоришь
по-французски, то и того довольно". Действительно, скоро нашлось
учительское место в барском доме, где целый год не могли раскусить
самозванца. Правда, узнав наконец обман, прогнали прочь. Это была обычная судьба иноземного
выходца, избравшего педагогическую карьеру без должной подготовки.
Некоторые кончали хуже, как тот гувернер, которого дед А. Пушкина
"феодально повесил на черном дворе" за связь со своей женой. А русские
барыни, скучая в провинциальной глуши, часто проявляли благосклонное
внимание к галантным "мусью", чем возбуждали свирепую ревность в сердцах
супругов-деспотов. Редкие счастливцы, случалось и такое, сами достигали
диплома на российскоое дворянство. Тургенев в "Записках охотника" передает
историю господина Леженя, отставшего от "Великой армии" в 1812 году,
которого крестьяне едва не утопили в проруби. На его счастье, мимо
проезжал местный помещик. "-- Что вы там такое делаете? -- спросил он мужиков. А францюзя топим, батюшка. А! -- равнодушно возразил помещик и отвернулся. Monsieur! Monsieur! -- закричал бедняк... Лошади тронулись. А, впрочем, стой! -- прибавил
помещик... -- Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?.. Мюзик, мюзик, савэ мюзик
ву? савэ?.. На фортепьяно жуэ савэ? Лежень понял наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой. Qui, monsieur, qui, qui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles!.. Да, сударь, да, да, я музыкант; я играю на всевозможных инструментах!..) Ну, счастлив твой бог, -- возразил помещик... -- Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку... Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям. Вот, дети, -- сказал он им, -- учитель
вам сыскан... Ну, мусье, -- продолжал он, указывая на дрянные
фортепьянишки... -- покажи нам свое искусство: жуэ!.. Лежень с замирающим сердцем сел на стул:
он от роду и не касался фортепьян... С отчаянием ударил бедняк по
клавишам, словно по барабану, заиграл как попало..."Я так и думал, --
рассказывал он потом, -- что мой спаситель схватит меня за ворот". Но, к
крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного,
одобрительно потрепал его по плечу."Хорошо, хорошо, -- промолвил он, --
вижу, что знаешь; поди теперь отдохни". Чудесное спасение, которым француз был
во многом обязан глухому невежеству русского барина, завершилось тем,
что скоро он перехал к другому помещику, который полюбил Леженя за
веселый нрав и более того -- женил его на своей воспитаннице.
Впоследствии Лежень поступил на службу, получил чин, а вместе с ним и
дворянство, выдал дочь за орловского помещика и прожил всю жизнь в
полном уважении со стороны соседей-дворян, звавших его попросту "Франц
Иванычем"". Но наука не шла впрок и тем, кто учился у
настоящих, а не поддельных наставников, имевших опыт и рекомендации,
чьи услуги стоили чрезвычайно дорого. Верхние слои дворянства с
малолетства привыкали к роскоши и удовлетворению любых желаний без
всякого труда или усилия со своей стороны, что воспитывало
инфантильность и развивало лень. Привычка относиться к своей жизни как к
бесконечному развлечению приводила к тому, что и усвоенные в
совершенстве иностранные языки превращались в средство для коротания
досуга или удовлетворения чувственности. Знаменитый Новиков в своем
журнале "Живописец" сокрушался, что французские любовные романы в десять
раз популярнее у российской читающей публики, чем книги серьезного
содержания. Д. Фонвизин вспоминал о том, как в пору своего студенчества в
Московском университете видел множество иностранных книг,
"соблазнительных, украшенных скверными эстампами", немало искусивших и
его целомудрие. В.О. Ключевский, описывая, как
добропорядочная помещица "после обычной утренней расправы на конюшне с
крестьянами и крестьянками принималась за французскую любовную книжку",
иронично отзывался о "нравственном одичании" русского дворянства: "Руссо
у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук
оправдывал нашу неохоту учиться". Впрочем, большинство дворян не читало
ничего вовсе, и, по свидетельству многих современников, иногда во всей
усадьбе, даже зажиточной, нельзя было отыскать ни одной, самой тощей
книжонки. Многие исследователи дворянского быта, сталкиваясь с явными
свидетельствами такой интеллектуальной и духовной невзыскательности, не
однажды задавались вопросом -- чем жили, о чем задумывались и
задумывались ли вообще о чем-нибудь эти обитатели родовых гнезд? М.Е. Салтыков-Щедрин, вспоминая
соседей-помещиков, среди которых прошло его детство, утверждал, что
большинство из них были не только бедны, но и чрезвычайно плохо
образованны. Основная масса землевладельцев состояла из дворянских
недорослей, ничему не учившихся и нигде не служивших, или из отставных
офицеров мелких чинов. Только один помещик окончил университет и двое,
среди которых был и отец писателя, получили сносное домашнее воспитание.
Салтыков писал: "В нашей местности исстари так повелось, что выйдет
молодой человек из кадетского корпуса, прослужит годик-другой и приедет в
деревню на хлеба к отцу с матерью. Там сошьет себе архалук, начнет по
соседям ездить, девицу присмотрит, женится, а когда умрут старики, то и
сам на хозяйство сядет. Нечего греха таить, не честолюбивый, смирный
народ был, ни ввысь, ни вширь, ни по сторонам не заглядывался. Рылся
около себя, как крот, причины причин не доискивался, ничем, что
происходило за деревенской околицей, не интересовался, и ежели жилось
тепло да сытно, то был доволен и собой, и своим жребием. Печатное дело
успехом не пользовалось. Из газет их и всего-то на целую Россию было
триполучались только "Московские ведомости", да и те не более как в трех
или четырех домах. О книгах и речи не было..." Действительно, если оставить в стороне
идеализированный взгляд на русское поместное дворянство,
сформировавшийся во многом уже после того, как век усадеб и их
обитателей закончился и ностальгические переживания сильно исказили
объективную реальность, то настоящий быт и характеры этих владельцев
крепостных "душ" окажутся во многом отталкивающими, а их обычное
времяпрепровождение и развлечения -- весьма грубыми. В одном доме заставляют дворового
мальчика лизать языком жарко натопленную печь и искренне хохочут над
тем, как несчастный с вылезающими из орбит глазами от боли с криком
бежит прочь. В другом -- напоят для потехи собственных детей. Мемуарист,
имевший случай воспользоваться гостеприимством такого семейства,
вспоминал, как родители потешались над пьяными барчатами, шатающимися из
стороны в сторону, падающими или дерущимися друг с другом. Отец, мать и
гости надрываются от хохота и подзадоривают: "А ну-ко, Аполлоша, повали
Пашу! Эх, Мишка упал, много царя забрал в голову, вставай, братец,
вставай!" Такие потехи были популярны и в глухих усадьбах, и в столице.
Барон Н. Врангель вспоминал, как старший брат, в ту пору уже
офицер-гвардеец, напоил его с маленькой сестрой шампанским и от души
хохотал над чудачествами пьяных детей. Любили шутить и над стариками. Сельский
священник, описывая быт известных ему дворян середины XIX века,
рассказывает, среди прочего, о таком господском развлечении: "Мать
барыни, Арина Петровна, ослепла совсем и жила в одном из флигельков
барского двора. Выйдут иногда вечерком господа на балкон и пошлют своих
птенчиков позабавиться с бабушкой. Из них старшему было лет за 12,
младшему 6. Внучки бегут и кричат: "Бабушка, тебя мамаша на балкон
зовет!" Выведут старуху на середину большого двора, сделают с ней
несколько кругов, чтоб она не нашла направления к дому, да и отбегут. Та
ругается, кричит, машет палкой, а детки-то на балконе хохочут,
внучатки-то увиваются, вертятся и дергают ее со всех сторон. Всем
потеха! Кто-нибудь из внучатков возьмет да и подставит ногу -- старуха
бац о землю! -- Все так и разразятся самым искренним хохотом! Ну,
значит, и развлечение..." Распущенность нравов, так же как и шутки
не просто грубого, но непристойного свойства оказывались обычными в то
время в кругу поместного дворянства. Я.М. Неверов в своей "Страничке из
эпохи крепостного права" передает собственные воспоминания о подобном
времяпрепровождении в доме помещика Кошкарова. Любимым объектом насмешек
хозяина была его соседка по имению, бедная дворянка Авдотья Ивановна
Корсакова, сын которой служил в армии вместе с сыновьями Кошкарова.
Однажды он спрашивает старушку, заехавшую к нему по-соседски в гости:
"Слышала ли ты, Авдотья Ивановна, что у нас теперь война? Вот, может, и
наши дети теперь сражаются?" -- "Нет, батюшка, не слыхала". -- "Как же,
вот и в газетах есть о том". И по знаку Кошкарова его экономка,
Феоктиста Семеновна, торжественным голосом читает про "ожесточенный
штурм Ширшавинской крепости", заканчивая так: "наконец, неприятель
вторгнулся в крепость и полились потоки крови, а с заднего бастиона
последовал выстрел"! Публика, собравшаяся за столом, и в том числе дамы,
разражались бурным смехом, одна Авдотья Ивановна в испуге крестилась,
приговаривая: "Ах, какое кровопролитие"! -- чем вызывала новый взрыв
хохота. Старушке, встревоженной за судьбу своего сына, было невдомек,
что ей только что прочитали сочиненное каким-то остряком описание
процесса дефлорации (Дефлорация, лат., лишение девственности. Яндекс.Словари › Брокгауз и Ефрон, 1907-1909). С.Т. Аксаков в "Семейной хронике" в
образе своего родного деда, Степана Михайловича, передает весьма точный
портрет среднего провинциального помещика. Обладая от природы ясным
умом, он, по словам его внука, "при общем невежестве тогдашних помещиков
не получил никакого образования, русскую грамоту знал плохо".
Самостоятельно научившись элементарным правилам арифметики, гордился
собою так, что до старости рассказывал внукам о своем достижении. Служил
в армии, но не слишком долго, а во время службы гонялся за волжскими
разбойниками, среди которых по большей части были беглые крепостные, и
настоящего противника в глаза не видел. Однако, воюя против крестьян,
выказал распорядительность и даже храбрость. Наконец вышел в отставку и
"несколько лет жил в своем наследственном селе Троицком, Багрово тож, и
сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских
работах, не стоял часовым при ссыпке и отпуске хлеба; смотрел редко, да
метко, как говорят русские люди, и, уж прошу не прогневаться, если
замечал что дурное, особенно обман, то уже не спускал никому". Вообще Степан Михайлович самими
крестьянами считался помещиком добрым, и некоторые старые слуги со
слезами вспоминали о своем барине, которого по-своему любили и уважали. Но образ почтенного Степана Михайловича является яркой иллюстрацией к
отзыву А. Кошелева о помещиках, хотя и слывущих "добрыми", но у которых
при этом "жизнь крестьян и дворовых людей крайне тяжела". Его омрачают
вспышки гнева и неукротимой свирепости такой силы, что, по словам самого
С.Т. Аксакова, они "искажали в нем образ человеческий и делали его
способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его
таким в моем детстве, -- и впечатление страха до сих пор живо в моей
памяти!" Этот "добрый, благодетельный и даже
снисходительный человек" однажды прогневался на свою дочь. "Узнать было
нельзя моего прежнего дедушку, -- признавался С.Т. Аксаков, -- он весь
дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз,
помутившихся, потемневших от ярости! "Подайте мне ее сюда!" -- вопил он
задыхающимся голосом. Это я помню живо: остальное мне часто
рассказывали.Бабушка кинулась было ему в ноги, прося помилования, но в
одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайлович таскал
за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тем не только
виноватая, но и все другие сестры и даже брат их с молодою женою и
маленьким сыном убежали из дома и спрятались в рощу, окружавшую дом;
даже там ночевали". Упустив своих домашних, "дедушка"
принялся вымещать ярость на дворовых и крушил все вокруг до тех пор,
пока совершенно не выбился из сил. А на следующий день гроза барского
гнева миновала: "светел, ясен проснулся на заре Степан Михайлович,
весело крикнул свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседней комнаты с
самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не бывало. "Чаю! Где
дети, Алексей, невестушка? Подайте Сережу", -- говорил проснувшийся
безумец, и все явились, спокойные и веселые"... Потом был обед, за которым все шутили и
смеялись, в то же время зорко посматривая -- не набежит ли новая тучка
на чело хозяина. Но тот оставался весел и не обращал внимания даже на
такие невольные оплошности прислуги, за которые в другое время
немедленно последовала бы жестокая кара. Но в следующий раз ярость старика
превзошла все границы настолько, что С.Т. Аксаков отказывается описывать
подробности поступков деда. И важно отметить, что это не первый случай,
когда потомки стыдливо умолкают при воспоминании о действиях
"благородных" предков. Он оговаривается только, что "это было ужасно и
отвратительно. По прошествии тридцати лет тетки мои
вспоминали об этом времени, дрожа от страха... старшие дочери долго
хворали, а у бабушки не стало косы и целый год ходила она с пластырем на
голове...". Таким предстает перед нами "добрый"
помещик, и это в бережном и щадящем описании его внука! Причем понятно,
что, проламывая голову собственной супруге в минуту гнева, он еще менее
затруднялся сдерживаться в обращении со слугами. Но чего же тогда
следовало ожидать от помещика, всеми признаваемого за "плохого"?! Таков, например, Михайло Куролесов из
той же аксаковской "Семейной хроники", а точнее -- М.М. Куроедов, живший
в реальности дворянин, чья жизнь и поступки с подробностями
воспроизведены писателем, изменившим только несколько букв в его
фамилии. Про него говорили, что он не только "строгонек", но жесток без
меры, что в деревне у себя он пьет и развратничает с компанией вольных и
крепостных головорезов, что несколько человек от его побоев умерло, а
местная власть подкуплена и запугана им, и закрывает глаза на любые
преступления и безумства; что "мелкие чиновники и дворяне перед ним
дрожкой дрожат, потому что он всякого, кто осмеливался делать и говорить
не по нем, хватал середи бела дня, сажал в погреба или овинные ямы и
морил холодом и голодом на хлебе да на воде, а некоторых без церемонии
дирал немилосердно". Одним из любимых развлечений Куролесова
было разъезжать на тройках с колокольчиками по округе и поить допьяна
всех, кто попадался на пути. А тех, кто сопротивлялся -- пороли и
привязывали к деревьям. По дороге закатывались к соседям-помещикам в
гости. Особенно любил Михайло Максимович проведывать тех, кто имел
дерзость жаловаться на него властям. Куролесовские подручные,
уверовавшие в безнаказанность своего господина, хватали таких
челобитчиков и пороли в их собственной усадьбе, "посреди семейства,
которое валялось в ногах и просило помилования виноватому. Бывали
насилия и похуже и также не имели никаких последствий", -- пишет С.Т.
Аксаков. Когда пришлось Куролесову поссориться с
женой, он, подобно Степану Михайловичу, не церемонился: "Несколькими
ударами сбил с ног свою Парашеньку и бил до тех пор, пока она не
лишилась чувств. Он позвал несколько благонадежных людей из своей
прислуги, приказал отнести барыню в каменный подвал, запер огромным
замком и ключ положил к себе в карман". Но глубокой ошибкой было бы относиться к
Михаилу Куролесову Куроедовукак к "спившемуся с кругу", опустившемуся
человеку, и потому в своих буйствах доходившему до крайности. Хозяйство
его было образцовым, и поместья благодаря его хозяйской хватке приносили
большой доход. В одной из своих усадеб, доставшейся позже по наследству
отцу С.Т. Аксакова, он затеял строительство просторной каменной церкви.
Наконец, он пользовался уважением высшего дворянства своей губернии за
умение поставить себя перед "мелкопоместной сошкой"; а знаменитый
Суворов был ему сродни и в письмах, найденных потом в куроедовском
архиве, обращался к нему не иначе, как "милостивый государь мой, братец
Михаил Максимович", а в окончании непременно приписывал: "С достодолжным
почтением к вам честь имею быть и проч..." В его поступках видно много уже знакомых
черт -- жестокость с крепостными, насилие над женой -- это все
проделывали в своих имениях и Аксаковы, и Пушкины, и Салтыковы, и прочие
известные и безвестные помещики. Конечно, Куролесов "тиранствовал" с
размахом, широко, без удержу, и в этом его единственное отличие от
прочих. Но и типов, не только близких, но превосходивших Куролесова в
буйстве и преступлениях, существовало в крепостной России огромное
количество. О них мы еще вспомним в свое время. Из сравнения Степана Михайловича и
Михаила Максимовича видно, что между "добрым" и "злым" помещиком была
очень тонкая, трудно уловимая грань. Их объединяло гораздо больше общих
черт, чем разъединяло различий. И главным, что было общего -- являлась
неограниченная власть над людьми, портившая от природы цельные
характеры, развращавшая вседозволенностью, уродовавшая души самих
"благородных" душевладельцев. Девизом этих людей стало печально
известное: "моему ндраву не препятствуй!" -- правило, которое приводит
как жизненное кредо своего прадеда Е. Сабанеева и вполне применимое к
большинству поместного дворянства. Один мемуарист воскликнул как-то, что
жизнь русских помещиков была для православного люда "наказанием Божьим,
бичом варварского деспотизма". Важно, что одними из характерных
проявлений этого "варварского деспотизма" совсем не обязательно были
жестокие пытки крестьян и дворовых или издевательства над женами и
соседями. Это деспотическое самодурство могло проявляться более мирно,
но от этого оказывалось еще тягостнее, пронизывало всю крепостную
действительность, жило в каждой бытовой мелочи. Примером этого может служить распорядок
дня, заведенный у себя в поместье В. Головиным. Ежедневно, напившись
чаю, барин отправлялся в церковь, где у него было свое специальное
место. По окончании службы возвращался домой, сопровождаемый
приближенными лакеями, и усаживался за обеденный стол. Господский обед
продолжался долго, не менее 3-х часов, и кушаньев на нем бывало
обыкновенно по семи, причем для каждого из кушаний был назначен особый
повар, который лично и приносил барину свое блюдо. После этого повара с
поклонами удалялись и их место занимали 12 официантов, одетых в красные
кафтаны, с напудренными волосами и непременно в белых шейных платках.
После обеда барин ложился спать до утра. Но приготовления ко сну также
сопровождались особенным, тщательно разработанным и неукоснительно
соблюдавшимся ритуалом. В спальне закрывались ставни и изнутри
прочитывали молитву, "аминь" -- отвечали снаружи после ее окончания и
запирали ставни железными болтами. Ключи от комнат и хозяйственных
помещений доверенная горничная относила барину и клала их ему под
подушку. Проходя обратно, отдавала неизменный приказ сенным девушкам,
дежурившим ночью: "ничем не стучите, громко не говорите, по ночам не
спите, подслушников глядите, огонь потушите и помните накрепко!" В
заключение давался еще один приказ, странный для непосвященного
человека, но в головинском доме имевший важное значение: "кошек-то
смотрите"! Дело объяснялось тем, что при спальне Головина стоял
особенный стол с семью ножками, к которым привязывались на ночь семь
кошек. И ничто так не расстраивало барина, как если кому-нибудь из них
удавалось освободиться и вспрыгнуть к нему на постель. В этом случае
наказание, а именно порка, ждало и кошку, и девку, дурно подвязавшую
поводок. Причем девку пороли, понятно, значительно сильнее. Во времена Бирона Головин попал в опалу и
перенес пытки. Поэтому некоторые приписывали причудливые порядки,
заведенные им, следствию душевного потрясения. Но нельзя не согласиться с
исследователями, замечавшими по этому поводу, что здесь важнее обратить
внимание не на душевное здоровье того или иного господина, а в случае с
Головиным нет никаких явных свидетельств его сумасшествия, важна не
личность, а общественный строй, при котором даже безумный барин мог
делать все, что только ему вздумается, и подневольные слуги обязаны были
исполнять любой, самый абсурдный каприз господина. А при промедлении
или оплошности "подвергаться наказанию наравне с провинившейся
кошкой", -- как писал В.И. Семевский. И в этом важная примета времени. Для
эпохи крепостного права характерно уравнение крепостного человека с
животным, а часто низведение его и в более унизительное состояние.
Государственный чиновник николаевской поры, автор содержательных записок
"О крепостном состоянии в России" А.П. Заблоцкий-Десятовский, подводя
итог своим личным наблюдениям о положении дворовых людей в дворянских
домах, отмечал, что "дворовый -- это вполне домашнее животное". И это было действительно так, при любом
господине. Разница состояла в том, что если "плохой" помещик не
задумывался обменять несколько крепостных "девок" на легавую суку или
приказать крестьянке выкормить грудью породистого щенка, то отношение
"доброго" барина к своим рабам, по сути мало отличное от "плохого", было
лишено только крайних проявлений цинизма и лютости. Степан Михайлович, дедушка С.Т.
Аксакова, зовет своих дворовых слуг, Мазана и Танайченка, не иначе как
"собачьи дети", и в этом добродушном прозвании исчерпывающе ясно
выражено положение этих людей и отношение к ним барина -- это отношение
хозяина к дворовой собаке. "Добрый" Степан Михайлович, скорее всего, не
заставит крестьянку грудью кормить борзых щенят, да и не держит он
охотничьих свор. Но Мазан и Танайченок обедают в прямом значении слова
объедками с барского стола и спят, растянувшись на полу перед входом в
комнату Степана Михайловича. А разве не случалось владельцу домашнего
животного находить его взобравшимся без спроса на хозяйскую постель?
Такое зрелище предстало однажды и взору Степана Михайловича. Мазан,
подметая комнату, соблазнился мягкой хозяйской периной, прилег и
нечаянно заснул. Куролесов велел бы запороть насмерть наглеца, а дедушка
"только отвесил ему добрый раз своим калиновым подожком, но это так,
ради смеха, чтоб позабавиться испугом Мазана", -- вспоминает Аксаков. (ПОДОЖО́К, подожка, муж. (обл.). уменьш. к подог. --> ПОДО́Г, подога, муж. (обл.). Палка, дубинка, трость. (Толковый словарь Ушакова.
Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)) Вообще на спинах и боках Танайченка с
Мазаном множество синяков и кровоподтеков от этого калинового подожка.
Хозяйская палка гуляет по телам рабов не только в наказание, но и просто
так, безо всякого повода. Исключения бывали крайне редки. Аксаков
описывает один из таких дней без побоев: "Проснулся дедушка, обтер
жаркою рукою горячий пот с крутого, высокого лба своего, высунул голову
из-под полога и рассмеялся. Ванька Мазан и Никанорка Танайченок храпели
врастяжку на полу, в карикатурно-живописных положениях." Эк храпят,
собачьи дети!" -- сказал дедушка и опять улыбнулся... После такого
сильного словесного приступа следовало бы ожидать толчка калиновым
подожком всегда у постели его стоявшимв бок спящего или пинка ногой,
даже приветствия стулом; но дедушка рассмеялся, просыпаясь, и на весь
день попал в добрый стих, как говорится". Таково общее отношение господ к своим
слугам. Дедушка Аксакова -- темный дворянин XVIII века, но и спустя
столетие ничего не изменилось во взгляде господ на своих крепостных
рабов. Н.Е. Врангель вспоминал, как его отец, богатый и прекрасно
образованный помещик, близкий ко двору Николая I, в память об умершей
жене подарил ее сестре одну из горничных покойной. Но сына этой
служанки, десятилетнего Ваську, оставил у себя. Однако вскоре свояченица
попросила взять подаренную женщину обратно, потому что ей было жаль
видеть, как мать горевала в разлуке со своим ребенком. Этот случай
сначала вызвал у барона искреннее недоумение и только потом едва ли не
впервые навел на размышления о том, что и у крепостных слуг могут быть
человеческие чувства! Его сын пишет в своих мемуарах: "Отец
призадумался. "Кто бы мог это подумать. Да, как-никак, а в сущности,
тоже люди". И мальчика отдал матери..." Любая жестокость физических расправ над
крепостными в усадьбах самых лютых помещиков покажется менее ужасной
перед этим искренним господским недоумением, перед отношением к живым
людям, христианам -- как к вещи или домашнему животному, которых можно
продавать, дарить, разлучать с близкими, но именно не по злобе, а по
убеждению в естественности и нормальности такого положения вещей. Об этой необратимой нравственной
испорченности, как сословном недуге всего российского дворянства,
включая лучших его представителей, свидетельствуют те, кто жил в эпоху
господства крепостного права и сам невольно оказывался соучастником
худших его проявлений. Татьяна Пассек[12] вспоминала, как вскоре после своего замужества гостила в имении у
дядюшки. При отъезде молодой четы великодушный дядя решил преподнести им
приятный сюрприз: Вадиму, ее супругу, подарил отличную верховую лошадь
по кличке "Персик" и... молодого башмачника. А самой племяннице --
тысячу рублей серебром и, кроме того, двух крепостных девушек в
услужение, предложив выбрать самой из всей многочисленной дворни. Много
лет спустя Пассек писала об этом не только стыдясь, но еще более
удивляясь себе самой и силе влияния на человека общественных привычек:
"Все дворовые и горничные девушки были собраны в мою комнату, иных
сопровождали матери с умоляющими взорами и заплаканными глазами...
Дурная страница открывается в моих воспоминаниях, но и ее надобно внести
в них. В этом сознании наказание и отрадное чувство примирения с собою
через покаяние. Больше всех девушек мне понравилась единственная дочь у
матери-вдовы, я указала на нее. Мать упала мне в ноги, девушка рыдала. Я
их утешала, ласкала, дарила, обещала, что ей у меня будет жить лучше,
чем в деревне -- и девушку удержала, и это не казалось мне
бесчеловечным! Так крепостное право, забираясь в сердца, портило
чистейшие понятия, давая возможность удовлетворять прихоти". * * * Позади всех, в самых последних и дальних
рядах российского дворянства находилась его самая многочисленная часть
-- мелкопоместные. Господствовавшие в обществе представления им также не
позволяли отстать от своих более состоятельных собратьев. И владельцы
не только что сотни, а часто и того меньше -- нескольких десятков
крепостных "душ" -- старались показать свое "благородство" и достаток:
заводили экипаж, лошадей получше, одежду потоньше и подороже, пусть
небольшую, но свою дворню, кучера, дворецкого. Все эти причуды
проступали кровавым потом на мужицких спинах. М. Салтыков-Щедрин писал
об этом: "Появилось раздолье, хлебосольство, веселая жизнь. Поэтому,
ради удовлетворения целям раздолья, неустанно выжимался последний
мужицкий сок, и мужики, разумеется, не сидели сложа руки, а кишели как
муравьи в окрестных полях... Непосильною барщиной мелкопоместный
крестьянин до того изнурялся, что даже по наружному виду можно было
сразу отличить его в толпе других крестьян. Он был и испуганнее, и
тощее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей массе
измученных людей был самым измученным. У многих мелкопоместных мужик
работал на себя только по праздникам, а в будни -- в ночное время. Так
что летняя страда этих людей просто-напросто превращалась в сплошную
каторгу". Но мелкопоместное дворянство также не
представляло собой однородной среды. Большая общественная дистанция
разделяла скромного, но сводившего в своем хозяйстве концы с концами
владельца 50--100 "душ" и жалкого обладателя всего нескольких крепостных
крестьян. Между тем таких дворян, "мелкой сошки", как презрительно
именовали их собственные собратья по сословию, было в российской империи
не просто много -- в некоторых губерниях число помещиков, имевших всего
до 20 крепостных людей, составляло 3/4 от общего количества душевладельцев. К появлению все большего числа
мелкопоместных приводило дробление имений между наследниками. С начала
XIX века, после того как при Александре I прекратились переводы
государственных крестьян в собственность дворянства, измельчание
поместий стало особенно заметным. На первых порах это приводило к
своеобразной чересполосице, когда в одной деревне или селе несколько
крестьянских дворов принадлежали одному владельцу, а следующие --
другому. Некоторые помещики оказывались собственниками даже большого
числа "душ", но разбросанных по разным селениям. В таких обстоятельствах
невозможно было организовать прибыльного хозяйства, а новые разделы еще
больше запутывали положение, и в результате могла возникать вовсе
парадоксальная ситуация, когда один мужик был обязан кормить двух или
более хозяев, почти как в знаменитой сказке. Со временем измельчание доходило до
крайней степени, и тогда помещичьего дома уже нельзя было отличить от
крестьянского жилища, а самого помещика -- от его крепостного. Впрочем,
уже в начале XIX века оказалось немалое количество и беспоместных и
"бездушных" дворян, не имевших вовсе ни одного крестьянина или дворового
человека и самостоятельно возделывавших свои земельные участки.
Особенно много было мелкопоместных владельцев в Рязанской губернии. Там
они получили даже специальное прозвание "дворянков". Такие "дворянки" населяли иногда целые
деревни, их дома стояли вперемешку с крестьянскими избами, а размеры
принадлежавших им земельных наделов были так малы, что не могли
прокормить и само "благородное" семейство, часто весьма многочисленное.
Здесь уже было не до хлебосольства или разъездов по гостям. Последним
крестьянам, если они оставались, "забривали лбы" -- т. е. продавали в
рекруты государству или соседним помещикам "на своз", чтобы получить
хоть какие-то деньги, и сами отправлялись на полевые работы, пахали и
сеяли и собирали урожай. Другие вовсе уходили на заработки в города. В
Петербурге и Москве можно было встретить обнищавшего "бывшего
благородного" человека под шляпой и в кафтане извозчика, в образе
разносчика горячих пирожков, трактирного кляузника или чернорабочего. А.И. Кошелев писал о мелкопоместных, что
у многих из них в доме одна пара сапог, которые по очереди служат то
господину, то мужику, смотря по необходимости -- кто едет в дорогу, идет
в лес и проч. "Многие мелкопоместные дворяне сами извозничают,
ямщичествуют, пашут вместе со своими крестьянами, носят одни и те же
кафтатны, полушубки и тулупы". Обычное жилище мелкопоместных дворян
представляло собой крохотное ветхое строение из двух комнат, разделенных
сенями, с пристроенной кухней. Но в доме было две половины -- направо
от входа "господская", налево -- людская, и таким образом, и здесь,
среди бедности и убожества, сохранялся сословный дух, разделявший хозяев
и рабов. Каждая из этих половин, в свою очередь,
была разделена перегородками. В людской по стенам стояли полати для
спанья, прялки, ручные жернова. Из мебели -- грубый стол, лавки или
несколько стульев, сундуки, ведра и прочее, что необходимо в хозяйстве.
Под лавками хранили обыкновенно корзины с яйцами, а по комнате бродили
или бегали, в зависимости от своего темперамента -- собаки, домашние
птицы, телята, кошки и прочая живность, видовую принадлежность которой
затруднялись определить сами очевидцы. Е. Водовозова писала, например, о
чрезвычайной популярности в мелкопоместных домах небольших зверьков,
называемых там "песцами". Однако сама мемуаристка, видевшая их,
оговаривается: "В зоологии песцами называют животных из породы лисиц, но
маленькие зверьки, о которых я говорю, ничего общего не имели с
лисицами. Очень возможно, что их называли совершенно неправильно в
научном отношении... Между тем из их прелестного легкого мягкого пуха
помещицы вязали себе тамбурною иглой и вязальными спицами красивые
платки, косынки, одеяла, перчатки, кофточки и т. п."[13] Господская половина была чище, опрятнее,
обставлена мебелью хотя и старой, изрядно потрепанной, но "помнившей"
лучшие времена. В остальном комната мало отличалось от крестьянского
обиталища. Но одной из характерных примет
мелкопоместного быта была все та же, присущая и более богатым дворянам,
многочисленность всевозможных приживалов и нахлебников, ютившихся вместе
с хозяевами в их чрезвычайно скромном доме. В обстоятельствах нужды,
сливавшейся с настоящей нищетой, в тесных помещениях и часто впроголодь
жили родственники, которым совершенно не к кому было идти за помощью и
негде искать куска хлеба, кроме как в этом убогом "родовом гнезде".
Здесь можно было встретить и "незамужних племянниц, престарелую сестру
хозяина или хозяйки, или дядюшку -- отставного корнета, промотавшего
свое состояние". В таком тесном и бедном сожительстве
возникали ссоры и бесконечные взаимные попреки. Хозяева придирались к
нахлебникам, те, не оставаясь в долгу, припоминали давние благодеяния,
оказанные их отцами нынешним кормильцам. Бранились грубо и "самым
площадным образом", мирились и вновь ссорились, а часы перемирия
разнообразили сплетнями или игрой в карты. Но часто чем беднее становился помещик,
чем острее он чувствовал несоответствие своего формального
"благородства" унизительным обстоятельствам существования, тем более
жестко он настаивал на признании за ним сословной исключительности,
кстати и некстати напоминая о своем "столбовом дворянстве". И здесь
главным обидчиком мелкопоместных выступали их более богатые и
влиятельные соседи. Единственная роль, раз и навсегда отведенная ими
"мелкой сошке" в барских усадьбах, -- была роль шута. Потешались и издевались над такими
дворянчиками за их бедность, а также за проистекающие из этого
необразованность, дурные манеры, неумение держать себя в "благородном"
обществе, за грубую одежду, являвшую собой причудливую смесь из платья,
носившегося в лучшие времена еще их отцами и дедами. Некоторые из
мелкопоместных охотно принимали на себя шутовскую роль и успешно
справлялись с ней, потешая гостей своего покровителя. Те же, кто находил
для себя это унизительным, старались не показываться в зажиточных
усадьбах. На больших званых обедах мелкопоместных
не сажали за стол, за которым сидели хозяин и "приличные" гости, а
кормили в боковых помещениях или в детской. Даже наследственные фамилии у
таких бедных дворян подвергались некоторым изменениям. Как бы
подчеркивая лишний раз ничтожность общественного положения
"благородного" бедняка, присваивали ему прозвище. Е. Водовозова пишет о
том, как это было принято между помещиками в ее родном крае:
"Мелкопоместного дворянина по фамилии Чижова все называли "Чижом", и,
когда он входил, ему кричали: "А, Чиж, здравствуй!.. Садись! Ну, чижик,
чижик, где ты был?" Мелкопоместного Стрекалова, занимавшегося за
ничтожную мзду писанием прошений, жалоб и хлопотами в суде, прозвали
"Стрикулистом". Его встречали в таком роде: "Ну что, Стрикулист, --
много рыбы выудил в мутной воде?" Решетовскому дали кличку "Решето": "Да
что с тобой разговаривать!.. Ведь недаром ты Решетом прозываешься!
Разве в твоей голове задержится что-нибудь?" Мелкопоместные всю жизнь
ходили с этими прозвищами и кличками, и многие из зажиточных помещиков
думали, что это их настоящие фамилии". Но такое униженное положение мелких
дворян нисколько не делало их самих великодушнее по отношению к
окружавшим их крестьянам, а вынужденное слишком тесное существование
вместе с крепостными людьми еще больше разжигало в них сословную спесь.
Возвращаясь домой из гостей, где они развлекали общество, выставляя
напоказ свое убожество, они спешили отыграться на бесправных слугах. Но если в богатых имениях для экзекуции
существовал целый штат палачей или кучера на конюшне, то многие
мелкопоместные были так бедны, что, владея всего одним или двумя рабами,
не имели возможности вполне проявить свою господскую власть и даже как
следует наказать их -- не приказывать же единственному крепостному
выпороть самого себя. Одна почтенная вдова, жившая с
дочерью-девицей, имела в своей собственности только двух крестьян --
мужа и жену, и часто оказывалась перед подобным затруднением.
Престарелая взбаломошная барыня выглядела очень комично, когда пыталась
покарать свою рабу, дородную и невозмутимую Фишку. "Макрина была
преисполнена дворянскою спесью, барством и гонором, столь свойственными
мелкопоместным дворянам. При каждом своем слове, при каждом поступке она
думала только об одном: как бы не уронить своего дворянского
достоинства, как бы ее двое крепостных не посмели сказать что-нибудь ей
или ее Женечке такое, что могло бы оскорбить их, как столбовых дворянок.
Но ее крепостные, зная свое значение, не обращали на это ни малейшего
внимания и ежедневно наносили чувствительные уколы ее самолюбию и
гордости. Они совсем не боялись своей помещицы, ни в грош не ставили ее,
за глаза называли ее "чертовой куклой", а при обращении с нею грубили
ей на каждом шагу, иначе не разговаривая, как в грубовато-фамильярном
тоне. Все это приводило в бешенство Макрину. Фишка! -- раздавался ее крик из окна комнаты. -- Отыщи барышнин клубок! Барышня! -- было ей ответом, -- ходи... ходи скорей коров доить, так я под твоим носом клубок тебе разыщу. Этого Макрина не могла стерпеть и бежала
на скотный, чтобы влепить пощечину грубиянке. Но та прекрасно знала все
норовы, обычаи и подходы своей госпожи. Высокая, сильная и здоровая,
она легко и спокойно отстраняла рукой свою помещицу, женщину
толстенькую, кругленькую, крошечного роста, и говорила что-нибудь в
таком роде: "Не... не... не трожь, зубы весь день сверлили, а ежли еще
что, -- завалюсь и не встану, усю работу сама справляй: небось
насидишься не емши не пимши". Но у Макрины сердце расходилось: она
бегала кругом Фишки, продолжая кричать на нее и топать ногами, осыпала
ее ругательствами, а та в это время преспокойно продолжала начатое дело.
Но вот Фишка нагнулась, чтобы поднять споткнувшегося цыпленка; барыня
быстро подбежала к ней сзади и ударила ее кулаком в спину. -- Ну, ладно... Сорвала сердце, и
буде! -- говорила Фишка, точно не она получила пинка. -- Таперича,
Христа ради, ходи ты у горницу... Чаво тут зря болтаешься, робить
мешаешь? Ее муж злил помещицу еще пуще. "Терешка!
Иди сейчас в горницу, -- стол завалился, надо чинить!.." -- "Эва на!
Конь взопрел... надо живой рукой отпрягать, а ты к ей за пустым делом
сломя голову беги!.." И он не трогался с места, продолжая распрягать
лошадь. "Как ты смеешь со мной рассуждать?" -- "Я же дело справляю...
кончу, ну, значит, и приду с пустяками возиться..." Наблюдавшая эту сцену мемуаристка
замечает, что если бы крепостные не стояли так твердо на своем, если бы,
несмотря на ругань и угрозы, они не старались прежде всего покончить
начатое дело по хозяйству, нелепая Макрина совсем бы погибла. Однако Макрина не успокоилась и решила
прибегнуть к помощи государственной власти. Она обратилась за помощью к
становому приставу и просила его иногда заезжать к ней в усадебку,
выпороть двух ее строптивых крепостных. Сам становой рассказывал об
этом: "Служба моя была собачья, -- пороть мне приходилось часто, но это
не доставляло мне ни малейшего удовольствия. С чего мне, думаю, пороть
людей madame Макрины? Ведь если вместо них ей дать другую пару
крепостных, она бы давно по миру пошла. Вот я толкну, бывало, Терешку в
сарай, припру дверь, только небольшую щелку оставлю, сам-то растянусь на
сене, а Терешка рожу свою к щелке приложит и кричит благим матом:
"Ой... ой... ой... ой-ей-ешеньки... смертушка моя пришла!.." А я,
лежа-то на сене, кричу на него да ругательски ругаю, как полагается при
подобных случаях... Вот и вся порка!" Снисходительность станового пристава в
данном случае объяснялась добрыми душевными качествами, с одной стороны,
а также и тем, что именно Фишка угощала его закуской во время
пребывания у Макрины и частенько, по его признанию, вместо молока
ставила ему сливки. Но эта курьезная сцена из крепостного
быта, к сожалению, заслонена неисчислимым количеством других случаев
подобного рода, оканчивавшихся трагически. Например, мелкопоместная
дворянка Смоленской губернии Лосевская собственноручно наказывала свою
крепостную девочку за то, что та по болезни не могла выполнять
возложенную на нее помещицей работу. Лосевская заперла девочку в
холодном погребе и не давала ей пищи, отчего та умерла. Другая барыня,
напротив, решила "подогреть" свою невольницу -- штабс-капитанша
Баранова, подозревая крепостную "девку" в краже, добивалась от нее
признания, посадив несчастную на раскаленную плиту... Жандармский офицер с досадой и тревогой
сообщал начальству о своих наблюдениях над нравами, распространенными в
помещичьей среде: "К сожалению, многие из дворян наших, особенно
мелкопоместные, по недостатку образования и грубому образу жизни,
который ведут они в деревнях, доселе мало понимают, что кроткими
внушениями можно успевать более, нежели постоянной строгостью, и не
умеют иначе взыскать, как только телесными наказаниями". В мелкопоместной среде часто случались
конфликты между соседями, а слишком тесное соседство, когда "усадьбы"
располагались бок о бок вдоль одной деревенской улицы, часто превращало
случайные ссоры в побоища, в которых принимали участие все жители.
Стоило одной дворянке заметить, как на ее огород забрела корова соседки,
тотчас наряжались подручные, родственники -- изгнать или покалечить
незваную четвероногую гостью. Хозяйка животного вступалась за свое
имущество, в словесной перепалке припоминались все обиды и оскорбления,
нанесенные друг другу, а также предками за последние сто лет, и дело
оставалось только за тем, кто не выдержит первым и вцепится обидчице в
волосы. Случалось, что ненавистных соседей и кипятком обваривали.
Начинавшиеся крики и ругань неизменно привлекали зевак и собирали собак
со всей округи; тут же подтягивались крепостные люди соперников, их
родственники и приживальщики, вооруженные всем, что попалось под руку. В
результате очень скоро лужайка, где мирно паслась нарушившая
"государственную" границу соседнего огорода-поместья корова,
превращалась в поле битвы, над которым раздавались собачий лай,
площадная брань, стоны раненых и покалеченных. Очевидица одной из таких схваток
мелкопоместных соседей вспоминала: "Драка сразу приняла свирепый
характер, -- это уже были два враждебных отряда; они бросились молотить
один другого дубинами, ухватами, сковородами; некоторые, сцепившись,
таскали один другого за волосы, кусали. И вдруг вся эта дерущаяся масса
людей стала представлять какой-то живой ворошившийся клубок. Здесь и там
валялись клоки вырванных волос, разорванные платки, упавшие без чувств
женщины, мелькали лужи крови. Это побоище окончилось бы очень печально,
если бы двое стариков из дворян не поторопили своих крепостных натаскать
из колодца воды и не начали обливать ею сражающихся". * * * Описанное выше побоище "дворянков" ничем
не отличалось от обыкновенной крестьянской драки. Но помещики,
обладавшие средствами и большим числом собственных крепостных, могли
позволить себе вести настоящие военные действия по примеру средневековых
феодалов. Войны помещиков друг с другом хотя и не были слишком часты,
но представляют собой одну из характерных примет эпохи крепостного
права. Воевали из-за кровных обид, из видов
корысти -- желая захватить собственность, крестьян, а то и усадьбу
противника. Например, помещик Грибоедов вооружил своих дворовых и напал
на деревню дворянки Бехтеевой. Хозяйку выгнал прочь, а сам поселился в
ее усадьбе. Некоторые дворяне, обладавшие слишком буйным нравом, воевали
с соседями просто так, чтобы развеять скуку. Но иногда помещичьи
схватки превращались в целые сражения, с пехотой и конницей, в которых
участвовали сотни людей. В 1754 году орловские помещики братья
Львовы, поссорившись из-за чего-то со своим соседом поручиком Сафоновым,
отправились на него в поход. Вместе с дворовыми и крепостными людьми, а
также крестьянами присоединившихся к походу родственников армия Львовых
насчитывала более 600 человек. Кавалерию составляли сами помещики
вместе со своими денщиками, приказчиками и наиболее приближенными из
дворовых. Крестьяне шли пешими. Перед походом два священника отслужили
молебен, а предводители произнесли вдохновительную речь, причем
призывали своих ратников "друг друга не выдавать, а врага не жалеть". Выпив для храбрости по чарке водки,
выступили в путь. Сафоновских крестьян застали врасплох, окружив их в то
время, как они, ничего не подозревая, мирно косили сено. В
кровопролитном бою погибло 11 человек и 45 было ранено. В этом же году под Москвой воевали
генеральша Стрешнева с князем Голицыным. По приказу госпожи ее крестьяне
во главе со старостой, вооружившись дубинами, косами и ружьями, напали
на голицынскую вотчину. Хозяина упустили, но захватили в плен 12 человек
княжеской дворни, отвезли с собой и посадили в цепях в погреб. Неизвестно по каким причинам генеральша
Стрешнева оставалась дома, пока громили усадьбу ее врага, потому что в
то время дворянки не отказывали себе в удовольствии лично командовать
военными действиями. Например, в 1755 году помещица Побединская напала
сразу на двух соседей -- помещиков Фрязина и Леонтьева. Несмотря на
отчаянное сопротивление, оказанное этими господами, их крестьяне
рассеялись, не выдержав натиска воинственной соседки и ее доморощенной
армии, а сами дворяне были убиты в схватке. Ожесточенным сражением закончился
земельный спор князей Долгоруковых и князей Несвицких. Вражда между ними
вспыхнула из-за лесного участка, ранее принадлежавшего Долгоруковым, но
половина которого решением суда была передана Несвицким. Бывшие
владельцы не смирились с этим и вооруженной рукой решили восстановить
свои имущественные права. Несвицкие распоряжались полученным
участком, начав там рубку леса, но одновременно, зная о настроениях
соседей, готовились дать отпор. Их крестьяне отправлялись на работу
вооруженными, с предосторожностями, как на враждебную приграничную
полосу, и обязательно под предводительством одного из князей. Однажды, приехав на делянку, они
встретили там крестьян Долгоруковых во главе со старостой. Дело
началось, как в старину между двумя дружинами, с едких насмешек, скоро
переросших в перебранку и затем в грубую ругань. Затем схватились
врукопашную. Драка превратилась в ожесточенное кровавое сражение. Князь
Несвицкий отчаянно сражался впереди своих крестьян, а долгоруковских
мужиков подбадривал староста. Пробиваясь к предводителю противников, он
кричал своим: "Бей всех до смерти! Бей князя до смерти в мою голову!" Наконец сторона Несвицких дрогнула.
Самого князя едва успели унести с поля битвы в изорванной и
окровавленной одежде. Он был сильно изранен: голова пробита в нескольких
местах, вышиблен глаз. Тех из его войска, кого смогли захватить в плен,
обезоружили и привязали к деревьям. Сражаясь с соседями, не останавливались и
перед нападением на представителей власти. Когда спустя несколько дней в
усадьбу к Долгоруковым явились чиновники арестовать виновных в лесном
побоище и изъять захваченные вещи, князья велели ударить в набат и
приказали собравшимся крестьянам гнать судейских прочь и бить дрекольем.
Уездное начальство едва спаслось немедленным бегством. Но в результате за барские забавы и
сумасбродство приходилось расплачиваться их крепостным. Исправники и
стряпчие возвращались с подкреплением, и тогда крестьян нещадно пороли,
ссылали на каторжные работы или "брили лбы". Для помещиков, затеявших
драку, как правило, все кончалось только тем, что им делали словесное
внушение и одновременно выдавали на руки рекрутские квитанции за
вынужденно изъятых из их собственности рабов. * * * Герцен отозвался как-то о господах и их
домашних слугах, что "разница между дворянами и дворовыми так же мала,
как между их названиями". Действительно, в основе происхождения и одного
и другого слова заключено напоминание о служебных обязанностях человека
"при дворе", а значит -- при хозяине. Дворянин на Руси изначально --
это один из княжеских или боярских слуг, нередко из холопов, т. е.
несвободных лично людей. Постепенно расширялись права дворянина, его
образ приобретал черты "благородства", а его обязанности почти целиком
сосредоточились на военной службе, но все же русский дворянин
принципиально отличался от своего европейского собрата. Он не обладал
никогда и малой долей независимости, личной или имущественной, и служил и
воевал он всегда не для себя и не за себя, как европейский рыцарь, а
как подневольный "государев" человек. И все его привилегии были простой
платой за службу. Императорский дворец, особенно при
первых женщинах-правительницах -- Екатерине, Анне и Елизавете, --
напоминал собой большую помещичью усадьбу, и нравы, принятые там, мало
чем отличались от быта обычного дворянского поместья того времени.
Только в роли слуг выступало "благородное российское шляхетство", и
венценосные господа обращались с ним без лишних церемоний. При дворе
жило множество "дураков", "дур" и шутов, среди которых встречаются
князья Волконский, Голицын, граф Апраксин, княгиня Голицына. Они должны
были потешать императрицу, драться друг с другом для смеха или
напиваться допьяна, рассказывать на ночь сказки или чесать пятки
госпоже. Анна Иоанновна, когда ей делалось скучно, открывала дверь в
соседний покой, где сидели ее фрейлины, и запросто командовала "А ну,
девки, пойте!" -- и девицы из родовитых семейств послушно затягивали
какую-нибудь песню и не смели умолкнуть до следующего распоряжения. А
Елизавета могла запросто на придворном балу подойти к знатной даме, как
это было, например, с Е. Лопухиной, и на глазах у всех закатить ей
оплеуху только за то, что та посмела одеть слишком красивое платье и
выглядеть более эффектно, чем сама императрица. На первый взгляд, и в дворянской усадьбе
все то же самое: крепостные чешут пятки барыне, поют хором, когда
барину грустно. Такова Маланья Павловна из тургеневских "Старых
портретов": "До страсти любила Маланья Павловна всё сладкое -- и особая
старушка, которая только и занималась, что вареньем, а потому и
прозывалась варенухой, раз по десяти на день подносила ей китайское
блюдечко -- то с розовыми листочками в сахаре, то с барбарисом в меду
или с ананасным шербетом. Маланья Павловна боялась одиночества --
страшные мысли тогда находят -- и почти постоянно была окружена
приживалками, которых убедительно просила: "Говорите, мол, говорите, что
так сидите -- только места свои греете!" -- и они трещали, как
канарейки. Будучи набожной... она очень любила молиться; но так как, по
ее словам, она хорошо читать молитвы не выучилась, то и держалась на то
бедная вдова-дьяконица, которая уж так-то вкусно молилась! Не запнется
ни вовек!.. Состояла при ней другая вдовушка, та должна была
рассказывать ей на ночь сказки". Французский мемуарист так описывает
досуг русской помещицы: "Дама, лежащая на диване или софе, часто бывает
окружена толпой рабынь; одна из них ей рассказывает что-нибудь, другая
чешет голову или пятки, а шут смешит ее..." И здесь же провинившимся или
замешкавшимся в исполнении приказания щедро раздаются пощечины, тычки и
удары "калиновым подожком", или щекобиткой -- изобретением крепостной эпохи. Но, конечно, даже отдаленно сравнивать
положение придворных и дворовых помещичьих людей совершенно невозможно.
Дело было в том, что царивший в стране дух невежественного грубого
деспотизма абсолютно всех подданных, даже самых родовитых и богатых,
делал немного рабами, но крепостные были рабами целиком и вполне, без
всяких условностей или преувеличений. Дворовые среди крепостных занимают
особое место. Существование такого характерного явления, как помещичья
"дворня", придало крепостному праву именно тот вид, какой оно имело в
истории. Без дворни невозможно представить себе ни дворянского быта, ни
самой эпохи. Дворовые художники, ремесленники, шуты,
учителя, архитекторы, официанты и повара, музыканты, артисты,
вышивальщицы, дворецкие и, наконец, просто "девки" и "казачки" наполняли
дворянские дома и сопровождали господ во всех передвижениях. Независимо
от того, отправляется помещик в далекое путешествие или в гости в
соседнее имение -- он берет с собой немалую часть своей дворни.
Многочисленность окружающих русского помещика рабов свидетельствует о
его могуществе, вызывает уважение и подобострастие. Каждый шаг господина и его близких
сопровождают домашние слуги, обязанные предугадывать любую их прихоть,
избавлять от необходимости самостоятельно выполнить самое ничтожное
усилие или действие. Наташа Ростова, например, вызывает к себе в комнату
дежурную горничную только для того, чтобы погасить на ночь свечу, хотя
она горит непосредственно рядом с изголовьем, и молодой графине
достаточно просто протянуть руку, чтобы достать до нее. Примечательно,
что этот эпизод написан Толстым без всякого намерения обратить особое
внимание читателя на него. Напротив, это совершенно обычная бытовая
подробность, и тем одним еще более красноречиво характеризующая особый
тип "господского" сознания и писателя, и его героини. Обычай держать многолюдную дворню
сохранялся до конца эпохи крепостного права, и это казалось естественной
необходимостью. У знатных аристократов дворовых людей только в одном
городском доме или усадьбе бывало по нескольку сотен. Вот неполный
перечень дворни Шереметева из имения Кусково: садовники, архитектор,
лекарь, управляющий матросами и гребцами соответственно и сами матросы и
гребцы потешного графского флота), художники, огромный штат музыкантов,
артистов, актрис и танцовщиц домашнего театра, ловчие, псари, конюхи,
лебединщик, швейцары, оружейники и прочие ремесленники с учениками и
подмастерьями, геодезист, башмачники и сапожники, трубочисты, дворники и
лесники, караульные, сторожа, мальчики для посылок, и даже двенадцать
гусар с "гусарским командиром" конечно -- все крепостные люди), повара и
их помощники, скороходы и еще множество других необходимых для
комфортного графского быта лиц. Бережливая великая княгиня Елена
Павловна пожаловалась как-то графине Браницкой на большие расходы по
содержанию своей дворни: "-- А сколько у вашего высочества дворовых
людей и лошадей? -- спросила Браницкая. -- Людей до ста человек, а
лошадей до 80, -- отвечала великая княгиня. -- Как же вам иметь меньше,
когда я имею дворовых людей до 300 и лошадей столько же. -- На что вам
такая толпа? -- Потому, что я графиня и знатная помещица. Мне они в год
не много раз понадобятся; но когда нужно -- не занимать же у соседей". Действительно, не только занимать, но
вообще пользоваться услугами лиц, не принадлежавших лично владельцу,
казалось едва ли не зазорным. И наоборот, максимально полная
автономность хозяйства, напоминавшего натуральное хозяйство европейского
Средневековья, свидетельствовала о достатке помещика, умении
"благородно" жить и правильно распоряжаться своей собственностью. Высшим
идеалом, к которому стремилось русское душевладельческое дворянство,
была возможность объявить восхищенным гостям, неприужденно махнув рукой
на окружающее великолепие: от слуг в роскошных ливреях до картин с
фамильными портретами на стенах, от каретного колеса до поросенка на
торжественно убранном столе -- "здесь все свое"! Число дворовых в 200, 300, 400 человек
было обыкновенным для дома богатого вельможи, но иногда эта цифра могла
возрастать вдвое. Так, в вотчине генерала Измайлова обитало около 800
домашних рабов разного пола и возраста. Вообще дворня составляла в
среднем У10 от общего количества помещичьих крепостных, однако в некоторых домах
дворовых людей насчитывалось до четверти от всего подневольного
населения усадьбы. Содержание господской дворни почти
целиком ложилось на пашенное крестьянство. Кроме того, крепостные
крестьяне должны были вносить за дворовых людей и подушную подать, и эти
дополнительные расходы являлись нередко причиной окончательного
разорения мужицкого хозяйства, а вместе с тем и помещичьего. Примеры
такого крайнего обнищания были нередки: один князь под конец жизни
перебивался только тем, что посылал нескольких музыкантов -- все, что
осталось от его крепостного оркестра и вообще от всего состояния --
играть в трактирах, и эти старые слуги кормили промотавшегося хозяина
своим искусством. Но желание быть, а еще чаще -- казаться
богатым барином, заглушало здравый смысл и осторожность, поэтому дворяне
умножали и умножали дворню, истощая силы своих крестьян. Это дикое
положение вещей удивляло не только иностранцев, но и тех разумных
русских господ, кто пожил заграницей. В России 20-30 дворовых имели
обязанности, с которыми в Европе справлялся один вольнонаемный слуга.
Однако на все призывы рационалистов сократить дворню стародумы неизменно
возражали: "Дворня ваша составлена не вами, а вашими предками, и вы
наследовали ее от них вместе с их привычками и вкусами, с их образом
жизни и даже, большею частию, образом их мыслей. Этот образ жизни, как
прежде был основан на местных условиях, так остался и теперь...
Давным-давно придумывают средства, как бы уменьшить дворню и даже совсем
освободиться от нее, но до сих пор еще ничего не придумали. Граф Ф.Г.
Орлов, который был, что называется, русская здоровая голова, говорил:
"Хотите, чтоб помещик не имел дворни? Сделайте, чтоб он не был ни
псовым, ни конским охотником, уничтожьте в нем страсть к гостеприимству,
обратите его в купца или мануфактуриста и заставьте его заниматься
одним -- ковать деньги". Скажут, что можно быть псовым и конским
охотником и гостеприимным хозяином без того, чтоб не прислуживали вам
двадцать человек -- справедливо; но тогда вы должны будете прибегнуть к
найму специальных людей, которых количество хотя втрое меньше, но
содержание их будет стоить втрое дороже... Да и зачем вам жаловаться,
что вас съела дворня? Пусть ест; чем ее у вас больше, тем больше к вам
уважения". Многочисленная свита была дорогим
удовольствием, и тратя на него значительные средства, господа не желали
скрывать раздражения по отношению к невольным виновникам расходов --
своим дворовым, именуя их не иначе как "дармоеды"! Но это было не вполне
справедливо. При правильной постановке дела дворовые могли приносить и
приносили владельцам большую прибыль. Домашние прядильницы и швеи,
кузнецы, сапожники, столяры -- изготавливали все необходимое для
хозяйства и обихода. Не нужно было тратиться на гонорары художникам --
они были из своей дворни. Крепостной архитектор не требовал платы за
возведение построек, от амбаров до дворцов, красотой которых и в наши
дни восторгаются современники. Из дворовых людей вышли зодчий Воронихин,
художники Тропинин и братья Аргуновы, знаменитый артист Щепкин и
множество других, имена которых не забыты до сих пор благодаря их вкладу
в отечественную культуру, а также еще большее количество забытых и -- забитых в прямом смысле слова кнутом и батогами на барской конюшне. Так, граф Владимир Орлов, недовольный
чем-то в работе своего домашнего архитектора Бабкина в имении Отрада,
велит без церемоний выпороть его. Граф Аракчеев и вовсе регулярно порол
крепостного архитектора Семенова за любую неисправность, явную или
мнимую. Примечательно, что этот Семенов был выпускником Академии
художеств и, по данной ему характеристике, -- "отличным специалистом".
Василий Тропинин с рождения принадлежал графу Миниху, но впоследствии, в
качестве приданого за дочерью Миниха, наряду с прочим движимым и
недвижимым имуществом, оказался в собственности графа Моркова. Его новый
хозяин, вопреки очевидному дарованию ребенка, отдает Тропинина в
ученики к кондитеру обучаться "конфектному мастерству". А потом,
все-таки разглядев в нем способности к живописи, поручает ему написание
семейных портретов. Но в то время как работы Тропинина получают
известность и восхищение зрителей, сам крепостной художник в перерывах
между художественными сеансами красит колодцы и каретные колеса в
усадьбе господина. Барину такое утилитарное использование талантливого
раба казалось полезным вдвойне -- и в хозяйстве порядок, и излишнее
самомнение в невольнике вовремя погашено напоминанием о его настоящем
общественном положении. Практичные хозяева стремились как можно
более расширить область применения труда своих дворовых, особенно из
числа тех, кто специализировался в творческих профессиях. Художники в
усадьбах одновременно столярничают, исполняют обязанности маляра,
обучают основам рисунка и живописи детей помещика. Крепостные музыканты,
когда в доме нет гостей или у господ нет желания слушать музыку,
выступают в роли лакеев, официантов или форейторов. Крепостное право существовало в России
двести лет, и в течение всего этого времени практически не менялся
распорядок жизни и быт дворни среднего помещичьего дома. Зашедший туда в
середине XVIII или в середине XIX века заставал все одно и то же:
"толпа дворовых людей наполняла переднюю: одни лежали на прилавке,
другие, сидя или стоя, шумели, смеялись и зевали от нечего делать".
Здесь же рядом мастерская, где "в одном углу на столе кроились платья, в
другом -- чинились господские сапоги... Ткацкий станок, за которым
сидит испитой труженик, и ткет, поурочно, барские полотна. В стороне от
него, в одном углу, сидит сапожник и точает господам обувь; если обуви
самим господам не нужно, то он работает им на продажу. В другом углу...
старик лет 70-ти шьет господам мужское и женское платье. Всем этим
вечным труженикам работа давалась на урок, за которым они просиживали и
дни и ночи, не зная себе праздника во всем году, разве только Святой
Пасхи. Направо дверь в биллиардную. В конце корридора вход в залу.
Рядом, об стенку с мастерской, -- детская, в которую нужно проходить
через девичью, с другого крыльца. В девичьей сидело девок 15-20 и
постоянно, поурочно, плели кружево и вышивали. Эти тоже сидели и день и
ночь, до просидней, с подбитыми глазами и синяками от щипков по всему
телу". Об этой части помещичьего дома и ее
обитательницах М.Е. Салтыков-Щедрин сохранил впечатления из виденного в
детстве в имении родителей: "Так называемая девичья положительно могла
назваться убежищем скорби. По всему дому раздавался оттуда крик и гам, и
неслись звуки, свидетельствовавшие о расходившейся барской руке.
"Девка" была всегда на глазах, всегда под рукою и притом вполне
безответна. Поэтому с ней окончательно не церемонились. Помимо барыни,
ее теснили и барынины фаворитки. С утра до вечера она или неподвижно
сидела наклоненная над пяльцами, или бегала сломя голову, исполняя
барские приказания. Даже праздника у нее не было, потому что и в
праздник требовалась услуга. И за всю эту муку она пользовалась
названием дармоедки и была единственным существом, к которому, даже из
расчета, ни в ком не пробуждалось сострадания. -- У меня полон дом дармоедок, -- говаривала матушка, -- а что в них проку, только хлеб едят! И, высказавши этот суровый приговор, она
была вполне убеждена, что устами ее говорит сама правда... У женской
прислуги был еще бич, от которого хоть отчасти избавлялась мужская
прислуга. Я разумею душные и вонючие помещения, в которых скучивались
сенные девушки на ночь. И девичья, и прилегавшие к ней темные закоулки
представляли ночью в полном смысле слова клоаку. За недостатком ларей,
большинство спало вповалку на полу, так что нельзя было пройти через
комнату, не наступив на кого-нибудь. Кажется, и дом был просторный, и
места для всех вдоволь, но так в этом доме все жестоко сложилось, что на
каждом шагу говорило о какой-то преднамеренной системе изнурения..." Порядки, существовавшие в дворянских
поместьях, были действительно весьма жестокими, но направлены они были
не столько на изнурение, сколько на максимальную эксплуатацию труда
подневольных людей. Для достижения этого не останавливались ни перед
чем. Орловская помещица Неклюдова, например, своих швей и вышивальщиц
привязывала косами к стульям, чтобы те не могли вставать из-за пялец и
работали без перерыва. То же было и в других имениях: где-то рогатки
одевали на шею, чтобы невольники не могли прилечь, где-то привязывали к
шее шпанских мух для бодрости. По естественной нужде нельзя было
самовольно отлучиться из девичьей или людской. Требовалось обратиться к
специальному надзирателю, который набирал партию "охотников" и строем
отводил к отхожему месту. Жизнь и труд дворовых в барской усадьбе,
напоминающие собой быт заключенных в колонии строгого режима, приносили
иногда замечательные результаты в произведенной продукции, но калечили
самих крепостных производителей. Писатель Терпигорев навсегда запомнил
ослепших от непосильной работы белошвеек в имении своей бабушки: "--
Вот... -- проговорила бабушка. Это нечто было удивительное! Это был
пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки,
цветочки -- живого места, что называется, на нем не было -- все
вышито!.. Когда наконец восторги всех уже были выражены и бабушка
приняла от всех дань одобрения, подобающую ей, матушка, наконец,
спросила ее: -- Ну а сколько же времени вышивали его? -- Два года, мой
друг... Двенадцать девок два года вышивали его... Три из них ослепли... Горничные, державшие пеньюар, стояли и
точно это до них нисколько ни малейше не касалось... Точно слепые были
не из их рядов, не из них же набраны". Одно из главных правил, определявших
внутреннюю жизнь помещичьего хозяйства, звучало так: "Убыли ни в чем
барском быть не должно!" Это значило, что все домашние слуги несли
личную ответственность за все, что могло пропасть или испортиться вне
зависимости от того, виновны они в произошедшем ущербе или нет. Околел
баран или теленок -- виноват пастух; издох цыпленок или украл хищник
утку -- значит, виновата птичница -- плохо смотрели, плохо беспокоились о
господском добре. Виновные должны были из своего хозяйства восполнить
потерю. Один очевидец вспоминал: "Случалось при
нас, что кто-нибудь из прислуги уронит тарелку и она, конечно,
разлетится в дребезги. Хлопнет тарелка, и все: ах! Повыскочат из-за
стола, стоят кружком и смотрят на черепки. При таком страшном событии не
удержится и сам Петр Иванович: пыхтя вылезет из кресла, станет над
черепками и смотрит: "вот, шельма, разбила? Ну, теперь и покупай!" Долго
толкуют господа над черепками, и потом, мало-помалу, усядутся снова и
начнут трапезовать". Иные помещики и помещицы заходили
слишком далеко в беспокойстве о потерях в хозяйстве и о том, что
дворовые их объедают и обкрадывают. В жандармском отчете упоминается о
дворянке, которая зауздывала "девок", когда те доили господских коров,
под тем предлогом, чтобы они "тайком не сосали молока". В качестве характеристики
действительного отношения русских дворян к своим дворовым может служить
объективное свидетельство А. Болотова. Будучи сам рачительным хозяином и
строгим помещиком, он писал, что некоторые господа поступают с
крепостными слугами "хуже, нежели со скотами". Но важна и его количественная оценка: "Таких помещиков меньше, однако
ж, должно к стыду признаться, нарочитое число есть". Из этого замечания
следует, что, хотя таких жестоких дворян было "меньше", но все равно
много -- то большинство помещиков относилось к своим дворовым конечно не
хуже, чем к скоту, но -- наравне со скотом, или немногим лучше. Но случались и исключения. Чаще всего
привязанности господ удостаивались няни и кормилицы, находившиеся с
барчуками с самого детства и растившие их вместо матерей, занятых
светскими удовольствиями. Этих женщин отличали от остальной дворни, они
обладали авторитетом и властью среди безликой и бесправной массы
домашних рабов, имели возможность часто видеть господ и говорить с ними,
позволяя себе откровенные и порой резкие высказывания. И господа
сносили это терпеливо. По воспоминаниям барона Н.Е. Врангеля, его няня
одна во всем доме "ничуть отца не боялась и не только ему не
потворствовала, а при случае говорила матушку-правду без всяких
обиняков". Но примеры искренней преданности
дворовых людей к господам, хотя и встречаются на страницах воспоминаний,
все же относятся, как правило, ко времени не позднее второй половины
XVIII столетия. Герцен писал об этом: "Встарь бывала... патриархальная,
династическая любовь между помещиками и дворовыми. Нынче нет больше на
Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ. И это
понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет
отвечать за своих людей на страшном судилище Христовом, а пользуется ею
из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как
кару Божию, не как искус, -- а просто оттого, что он беззащитен; сила
солому ломит..." Граф Николай Толстой оставил в очерках,
основанных на семейных преданиях, рассказ о подвиге крепостной
кормилицы, спасшей грудного господского ребенка во время восстания
Пугачева. Рискуя жизнью, она скрывалась в тесном пивном чане, пока казаки пировали в усадьбе, повесив бывшего владельца с женой и старшими
детьми, а также и соседних помещиков вместе с их семьями. "Судорожно
сжимала она ребенка, когда пьяные варвары подходили к котлу, и дитя
внезапным криком могло выдать и себя и ее. Ужас дыбил на ней волосы...
не раз слышала несчастная толки злодеев о приказе самозванца разыскать
ее и пытать за укрывательство псенка. Не раз долетали до нея предсмертныя мольбы истязаемых, и все это время,
кормя ребецка, она выдерживала пытку и нравственную и физическую,
томимая жаждой и голодом под раскалившимся от солнца котлом своим". Затем женщина много недель пряталась в
лесу, в дуплах деревьев, в заброшенных амбарах, ночевала под открытым
небом, а когда случалось встретиться с разъездами пугачевцев, выдавала
грудную "барышню" за собственного ребенка. Спустя шесть недель она
добрела до имения родственников своих господ и предъявила им спасенного
ребенка, как пишет Толстой, "с явными доказательствами его подлинности,
известными близким родственникам, пировавшим на крестинах... Вымученный у
собственной плоти ребенок сделался идолом кормилицы и был с ней
неразлучен. К чести родных надо сказать, что и женщина эта получила
почет и пользовалась всеобщим уважением, так что при замужестве богатой
сироты, по общему присуждению всех родственников, кормилица и
спасительница своей вскормленицы получила высокую для крепостной женщины
честь благословить ее под венец вместо матери..." Если оставить в стороне возвышенный тон
автора записок, то здесь очевидно торжество все того же главного
принципа помещичьего быта: "Убыли ни в чем барском быть не должно"! И
даже спасительницу дворянского ребенка готовы окружить всевозможным
почетом, тем более что это не стоит никаких затрат, но только не
подписать ей вольной грамоты! В этом смысле примечательно духовное
завещание рязанской помещицы Мерчанской своему наследнику относительно
кормилицы: "Прошу тебя, друг мой, любить всех наших добрых домашних и
покоить старость кормилицы моей, Феклы Тимофеевой, не разлучая ее никогда с дочерью и зятем"...
Таким образом, вся благодарность со стороны этой дворянки исчерпывается
тем, что она просит только не продавать свою заботливую кормилицу
отдельно от ее дочери, причем, к слову сказать, -- своей молочной
сестры!.. Неограниченная господская власть и
воспринятые с детства сословные предрассудки оказывались выше
человеческих привязанностей. Сергей Тимофеевич Аксаков передает
воспоминание о своей родственнице, всегда "доброй" женщине, которая, тем
не менее, в минуту барского гнева на излишнюю болтливость кормилицы
грозит ей немедленной ссылкой в глухую деревню. Еще красноречивее отзыв
писателя о судьбе собственной няни, впавшей в немилость к его матери:
"Нянька наша... была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень
любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в
дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я
это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила
за нами очень усердно, но... не понимала требований моей матери и
потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в
деревню..." Матери Аксакова, образованной на
"европейский манер" барыне, не нравилось, что няня рассказывала барчатам
о народных преданиях и поверьях, которые, возможно, и воспитали в
будущем классике русской литературы чувство своеобразного стиля и
привили ему духовную близость с национальной традицией. Еще в самом конце XIX века в одной из
некогда процветавших дворянских усадеб можно было увидеть грубо
сделанный из домашнего производства кирпичей памятник. На нем уцелела
скупая, потускневшая от времени подпись: "Трем моим слугам за верность".
Этот старинный монумент был воздвигнут во второй половине XVIII
столетия по приказу помещика, чья семья спаслась от нападения
разбойников благодаря самоотверженной гибели троих дворовых людей.
Память об этих преданных рабах в дворянском семействе оставалась живой
на протяжении более чем столетия. Но одновременно с этим и в
крестьянских семьях, принадлежвших этим же помещикам, не могли забыть о
нескольких десятках своих братьев, мужей и отцов, сосланных тогда же в
Сибирь и отданных в рекруты господами только за то, что они, в отличие
от троих верных слуг, не захотели отдать свои жизни за господское добро и
позволили грабителям проникнуть в усадьбу. А в целях воспитания большей
преданности в тех, кого не сослали и кому не забрили лоб, их перепороли
на конюшне, не разбирая старого или малого, ни "мужеска ни женска
полу". Постоянные унижения от господ и в то же
время часто враждебное отношение со стороны своих собратьев по неволе --
крепостных крестьян, недолюбливавших "дворню", которую они вынуждены
были кормить за свой счет, делало положение домашних слуг очень тяжелым.
Немногие могли и смели бороться со своей участью -- совершали побеги,
приставали к разбойничьим отрядам и вместе с ними громили усадьбы
прежних владельцев. Противоположностью таким бунтарям были люди другого
склада, находившие в господской службе удовольствие и выгоду для себя.
Они льстили хозяевам и одновременно обворовывали их, доносили на своих
товарищей, выполняли любую прихоть господ, и более того -- сами
подвигали их совершать еще более низкие поступки. Большинство просто мирилось со своей
участью, не размышляя о том, справедлива она или нет. Но среди этих
людей попадались те, кого можно назвать рабами по убеждению, а вернее --
по христианскому смирению, проистекавшему из своеобразно понимаемой
необходимости безропотно принимать ниспосланный ему свыше удел. Такова
описанная Салтыковым-Щедриным крепостная Аннушка: "Христос-то для
черняди с небеси сходил, -- говорила Аннушка, -- чтобы черный народ
спасти, и для того благословил его рабством. Сказал: рабы, господам
повинуйтеся, и за это сподобитесь венцов небесных". Но о том, каких венцов сподобятся в будущей жизни господа, -- она, конечно, умалчивала... "Повинуйтесь! повинуйтесь! повинуйтесь!
причастницами света небесного будете!" -- твердила она беспрестанно и
приводила примеры из Евангелия и житий святых. А так как и без того в
основе установившихся порядков лежало безусловное повиновение, во имя
которого только и разрешалось дышать, то всем становилось как будто
легче при напоминании, что удручающие вериги рабства не были действием
фаталистического озорства, но представляли собой временное испытание, в
конце которого обещалось воссияние в присносущем небесном свете. Возражательниц не случалось; только Акулина-ключница не упускала случая, чтобы не прикрикнуть на нее: -- Закаркала, ворона, слушать тошно! Повинуйтесь да повинуйтесь! и без тебя знают!" Салтыков пишет, что такая религиозная
доктрина, подведенная под основание рабства, была распространена среди
крепостных. Но, несмотря на то что она утверждала необходимость
повиновения помещикам, сами господа относились к этой теории с
настороженностью, потому что ортодоксальным защитникам существующих
порядков даже само рассуждение в устах рабов о причинах необходимости
послушания представлялось едва ли не покушением на всю систему рабства в
целом. Состав дворовых людей не был постоянным,
он менялся, обновлялся, то уменьшаясь, то увеличиваясь, в зависимости
от потребностей или материальных возможностей помещика. В каждой усадьбе
существовала группа потомственных дворовых, старых семейных слуг.
Пополнялись ряды дворни двумя путями -- или покупкой, или переводом
крестьянина с пашни "на двор". Часто брали в услужение маленьких детей,
отнимая их у родителей. Бывший крепостной Федор Бобков рассказывал, как
он сам попал в дворовые: "В начале зимы пронесся слух, что барин
потребовал выбора и присылки к нему в услужение наиболее красивых и
ловких девушек и парней... В одну из суббот, едва семья встала на общую
молитву, как раздался стук в окно. Послышался голос, что бурмистр
немедленно требует к себе отца вместе со мною. Не успели мы прийти к
бурмистру, как он объявил, что посланные им в Москву к господам мальчики
забракованы и отправлены обратно и что поэтому в Москву посылаюсь я. --
А ты не горюй, -- прибавил он, обращаясь ко мне. -- Если бы ко двору не
попал, в солдаты пошел бы. Дома тебе не усидеть". Бесхитростное повествование другого
крепостного человека, Саввы Пурлевского, также дает представление о том,
как и из кого господа набирали себе дворню: "Помещик пишет бурмистру:
выбрать четырех человек самого высокого роста, не старше 20 лет,
способных ездить на запятках за каретой, да четырех красивых девушек не
старше восемнадцати, и всех сих людей лично привезти к барину в
Петербург. Приказ, как водится, прочитали сходке;
перечить никто не посмел, хотя все были огорчены, особенно у кого
молодые сыновья и красавицы-дочери. Родительница моя, тоже испугавшись
за меня, заворчала: "Старый греховодник! По летам ли ему так баловаться!
А что если и тебя, Саушка, по сиротству возьмут в эти проклятые
гайдуки?.."" Но случалось и наоборот, когда дворовых
отправляли в деревню, "сажали на землю". Причем нередко так поступали с
людьми, совершенно отвыкшими от земледелия или и вовсе никогда не
ходившими за сохой, обученными искусствам. Отец писательницы Е. Водовозовой,
помещик средней руки, желая иметь у себя в имении оркестр не хуже, чем у
своего бывшего сослуживца, некоего богатого князя Г., отдал
деревенского парня, способного к музыке, учиться игре на скрипке. Но
после смерти мужа его вдова, не разделявшая причуд покойного и к музыке
совершенно равнодушная, вспомнила про бывшего дворового и вернула к себе
в усадьбу, приказав ему взять участок земли и стать пашенным
крестьянином. Водовозова вспоминает: "В то время Ваське уже перевалило
за тридцать лет; он был женат. Хотя он, конечно, знал о перемене судьбы
многих дворовых, но, когда дело коснулось его лично, он просто потерял
голову: Василий со слезами бросился перед матушкой на колени, умоляя выслушать его. Не могу, видит Бог, не могу, сударыня.
Ведь когда я простым деревенским парнем состоял, я косил и пахал, все
делал, от земли не отлынивал. Покойный барин изволили приказать по
музыке идти... По музыке пошел, ведь этому уже теперь тринадцать годов,
как я от земли оторвался... Как же мне к ней теперь приспособиться? Но непреклонная помещица отвечала: Ты с ума сошел! Да что же ты наигрывать,
что ли, мне собираешься "По улице мостовой", когда я с поля
возвращаюсь? Только знай -- я тебя даром с женой хлебом кормить не буду!
Ты у меня научишься крестьянской работе!.. Будешь у меня и косить, и
пахать, и молотить! А теперь пошел вон!" Так решительно распоряжались судьбой
своих дворовых рабов во всех усадьбах, у безвестных и знаменитых
владельцев. Прославленный А.В. Суворов, побывав в одном из своих
поместий, распорядился из 14 человек дворни оставить при доме двоих, а
остальных, среди которых было и несколько музыкантов, перевести "в
крестьяне" на пашню. Как непривычные к крестьянской работе люди будут
справляться с новыми обязанностями, генералиссимуса совершенно не
интересовало. Жизнь дворовых, проходившая целиком на
глазах хозяев, была не только тяжела, но совершенно непредсказуема. В
любой момент случайный господский каприз или гнев могли бесповоротно
изменить судьбу человека. Старый князь Болконский, сидя за обедом в
дурном расположении духа, срывает зло на некстати попавшемся на глаза
лакее и велит немедленно отдать его в солдаты! У этого безвестного лакея
могла быть семья: жена, дети -- и воля сумасбродного барина в один миг
разрушает все. Можно сказать, что князь Болконский -- это только
персонаж романа "Война и мир", вымышленный герой. Но почти за всеми
значимыми персонажами русской литературы скрываются реальные прототипы, с
их настоящими поступками и характерами. Известно, что в образе старого
князя Лев Толстой изобразил черты своего деда, князя Н. Волконского. Не литературный персонаж, а настоящий
крепостной дворовый человек Ф. Бобков вспоминал, как быстро решалась
участь неугодного слуги в доме его барыни: "Наша обыденная жизнь в
людской была нарушена происшествием. На Фоминой неделе людей стали
кормить тухлою солониною. Мы ели неохотно, но молчали. Лакей же Иван при
встрече с экономкой сказал, что если она будет продолжать давать
тухлятину, то бросит ей солонину в лицо. Она сейчас же побежала
жаловаться господам. Иван был немедленно вызван. Он не стал отказываться
от своих угроз и добавил, что люди не собаки. За такую дерзость Иван
немедленно был сдан в солдаты". Самое большое испытание ожидало дворню,
когда умирал прежний господин и наступало время раздела имущества между
наследниками. В этом случае дворовых делили точно так же, как любые
другие вещи, исходя исключительно из их рыночной стоимости,
работоспособности и годности в хозяйстве и совершенно не обращая
внимания на их чувства. А.Я. Панаева[14] передает сцену такого дележа, которому она была не только
свидетельница, но и вынужденная участница, потому что ее муж был в числе
наследников умершего помещика: "Посредник сначала хотел разделить
дворовых по семействам, но все наследники восстали против этого. --
Помилуйте, -- кричал один, -- мне достанутся старики да малые дети!
Другой возражал: -- Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни
одного сына, нет-с, это неправильно, вдруг мне выпадет жребий на
Маланью. Порешили разделить по ровной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девушек, и, наконец, стариков и детей. Когда настало время вынимать жребий, то
вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась
народом. Когда сделалось известным, что матери и отцы разделены с
дочерьми и сыновьями, то всюду раздались вопли, стоны, рыдания...
Матери, забыв всякий страх, врывались в зало, бросались в ноги
наследникам, умоляя не разлучать их с детьми... Панаеву удалось
обменяться с дядями, отдав им рослого лакея за тщедушную девочку, чтобы
не разлучить семьи. Дяди подсмеивались над своим нерасчетливым молодым
племянником и охотно соглашались на обмен". До какой степени цинизма могли доходить
господа в отношении своих рабов, можно судить по рассказу графа Н.
Толстого о своем прадеде. Тот обыкновенно в число приданого за своими
дочерьми включал молодых дворовых людей. Но перед тем, как согласиться
на свадьбу, призывал к себе старых слуг, отцов молодежи, отдаваемой в
приданое, и велел им "под рукой" разузнать все подробности про будущего
жениха. Нет ли за ним грешков или опасных слабостей вроде пристрастия к
картам или вину, не развратник ли, и т. д. При этом старый граф
добродушно оглядывал отцов, которым предстояло навсегда разлучиться с
детьми, и наставлял: "Сослужите мне службу верой и правдой и для меня да
и для себя, чтоб и мне детище не загубить, да и вам своих тоже... Да
помните то, что достанутся ему дети ваши чуть ли не в вечную жизнь". Граф Толстой добавляет, что родители,
конечно, "из всей шкуры лезли, чтоб вернее узнать нрав, обычай, качества
и недостатки жениха". Чем благоустроеннее был дом, или чем
больше его владелец желал иметь славу хорошего хозяина, тем строже
регламентировалась внутренняя жизнь того мирка, что включал в себя
население господской усадьбы. Подробные инструкции определяли
обязанности каждого слуги и перечень наказаний за невыполнение или
выполнение их ненадлежащим образом. В одной из таких инструкций,
составленных московским барином Луниным, читаем, что дневальный официант
"без напамятования должен чаще сам и посылать мальчиков снимать со свеч
чисто и опрятно; на нем взыщется ежели свеча не прямо в шандале
поставлена, или оная шатается..." После ужина дневальный официант и
лакей должны были свечи гасить и относить в буфет, где тщательно
разбирали все огарки, из которых потом самые маленькие отдавались для
переливки в новые свечи, а крупные огарки велено было употреблять в
задних покоях. Там же подробно прописаны обязанности
старшего конюха и ловчего, виночерпия, дворецкого, а также их подручных.
Сам Лунин не считал себя строгим помещиком, объявляя своим желанием
вести хозяйство, чтобы слуги одновременно -- "и любили меня и боялись...
Доброго слугу отличать награждениями, а порочного стыдить, поправлять и
наказывать". Однако на деле подобные благородные
намерения заканчивались не справедливым поощрением или "исправлением", а
бесцеремонным вмешательством в каждое мгновение жизни дворовых людей.
Не говоря о том, что самоуверенная убежденность в своем праве отличать
праведность и судить порочность не всегда соответствовала действительным
способностям господ, а их собственные нравственные качества бывали
необыкновенно низки. Контроль над личной жизнью своих
дворовых являлся одной из главных бытовых забот помещиков. Заключался он
не в воспитании или пробуждении в темных людях высоких чувств -- это
представлялось опасным и было совершенно немыслимо. Ограничивались
введением в доме практически тюремного расписания. Тот же Лунин
"поправлял" пороки у себя в доме тем, что попросту запирал после 10
часов вечера всех холостых дворовых мужчин в отдельную комнату на замок
до утра. Другим средством от разврата в усадьбе
было "выслеживание девок". Салтыков-Щедрин рассказывал о том, как это
происходило в поместье его матери: "Процедура выслеживать была
омерзительна до последней степени. Устраивали засады, подстерегали по
ночам, рылись в грязном белье и проч. И когда, наконец, улики были
налицо, начинался целый ад. Иногда, не дождавшись разрешения от
бремени, виновную как тогда говорили: "с кузовом" выдавали за
крестьянина, непременно за бедного и притом вдовца с большим семейством.
Словом сказать, трагедии самые несомненные совершались на каждом шагу, и
никто и не подозревал, что это трагедия, а говорили резонно, что с
"подлянками" иначе поступать нельзя. И мы, дети, были свидетелями этих
трагедий и глядели на них не только без ужаса, но совершенно
равнодушными глазами. Кажется, и мы не прочь были думать, что с
"подлянками" иначе нельзя..." В тех случаях, когда выследить не
успевали, а беременной оказывалась дворовая девушка, которой по каким-то
причинам дорожили в доме и отпускать не желали -- тогда ребенка сразу
после рождения отнимали у матери и отдавали на воспитание в чужую
крестьянскую семью, причем старались при возможности отдать подальше, в
другую деревню, а мать оставалась при господах и по-прежнему должна была
служить им "верой и правдой". В усадьбе нижегородского помещика
Кошкарова существовали такие правила поведения для прислуги: весь дом у
него был разделен на женскую и мужскую половину, границей между которыми
служила гостиная. У дверей гостиной, ведущих в зал, стоял дежурный
лакей, а около противоположных дверей -- дежурная девушка. И ни один из
них не смел ни прикаких обстоятельствах переступить заветной границы. В
случае необходимости отдать новое распоряжение барина, касающееся
мужской прислуги, девушка не могла приблизиться к порогу мужской
половины, но должна была громко окликнуть дежурного и передать ему
приказание. Что же касается женской половины, то она охранялась еще
строже. Я. Неверов, ребенком живший в доме Кошкарова и лично наблюдавший
причудливые порядки, царившие там, вспоминал, что не только дежурный
лакей или еще кто-нибудь из мужской прислуги,
но даже сыновья Кошкарова или его гости-мужчины не могли пройти дальше
дверей, которые охраняла дежурная девушка. Сам престарелый барин внимательно следил
за поведением своих слуг. И если вдруг ему казалось, что девушка
слишком внимательно или "умильно" глядела в сторону дежурного лакея,
или, отдав приказание, возвращалась на свое место раскрасневшись -- это
приводило Кошкарова в ярость. "Это значит, что ей "захотелось"",
объяснял он и жестоко бил "подлянку" по лицу... Несмотря ни на что, господские обыски и
пощечины, конечно, оказывали мало влияния на нравы дворовых людей. Чем
строже устанавливали для них правила, чем невыносимее становились
обстоятельства их существования, тем с большей решимостью рабы нарушали
запреты. Между обитателями тесной смрадной людской и надушенной
господской гостиной существовало непреодолимое отчуждение, взаимная
неприязнь и глухое раздражение, иногда прорывавшееся на свободу в виде
жутких сцен насилия. Помещики из тщеславия и в силу принятых
общественных привычек множили число своей дворни, но одновременно
тяготились ею, боялись своих собственных слуг, понимая, что человеческое
терпение не беспредельно. Случаи, когда толпа дворовых неожиданно
врывалась в спальню своих господ и чинила над ними мгновенную расправу,
происходили регулярно. "При таких известиях вся помещичья среда
обыкновенно затихала, но спустя короткое время забывала о случившемся и
вновь с легким сердцем принималась за старые подвиги", -- писал М.Е.
Салтыков. И нелепая мрачная "крепостная мистерия" повторялась снова и
снова.
6 
Глава IV. Многие помещики наши весьма изрядные развратники...
Я три года у матушки в гостях не была. Ах ты птушка, птушка вольная, Ты лети в мою сторонушку, Ты неси, неси соловушка, Ах, батюшке да низкий поклон. А матушке челобитьице. Что пропали наши головы За боярином, за извергом... Из народных песен Дворянские забавы: охоты, крепостные гаремы, крепостной театр Весь строй крепостного хозяйства, вся
система хозяйственных и бытовых взаимоотношений господ с крестьянами и
дворовыми слугами были подчинены цели обеспечения помещика и его семьи
средствами для комфортной и удобной жизни. Даже забота о нравственности
своих рабов была продиктована со стороны дворянства стремлением оградить
себя от любых неожиданностей, способных нарушить привычный распорядок.
Российские душевладельцы могли искренне сожалеть о том, что крепостных
нельзя совершенно лишить человеческих чувств и обратить в бездушные и
безгласные рабочие машины. При этом сами дворяне нисколько не
стесняли себя нравственными ограничениями. А.В. Никитенко, бывший
крепостной человек, сумевший добиться свободы и сделать блестящую
государственную карьеру, очень точно подметил эту характерную
особенность помещичьего образа жизни, сказав, что русские "благородные"
господа, владея сотнями послушных рабов, сами состояли в рабстве у своих
дурных наклонностей. Подтверждая это наблюдение, другой современник
писал: "Что оставалось делать необразованному, материально
обеспеченному, возвышенному законом над всеми другими сословиями, перед
которым преклонялось все, которого предупреждалось всякое движение и
которого исполнялось всякое желание -- господину? Театр, клуб, карты,
музыка, псарня, кутеж и самодурство всякого рода должны быть
естественным и, действительно были, единственным его развлечением". Русское дворянство представило миру
совершенно фантастические образцы чудачеств, некоторые из которых можно
было бы признать и забавными и весьма оригинальными. Но на каждом из них
лежит печать народного рабства, каждая из этих барских причуд и была
возможна только благодаря государственной системе, построенной на
рабстве, и потому кажется очевидным, что воспоминание об этих
самодурствах не может вызывать ничего, кроме стыда за то, что все это
происходило в России, и кроме удивления, что происходило это на
протяжении двух столетий. Но находились раньше, и сегодня во множестве
находятся люди, считающие возможным, наоборот, ностальгически
восхищаться этими "волшебными чудачествами крепостной России" -- по
выражению барона Николая Врангеля, автора дореволюционной книжки о
русских усадьбах. Так или иначе, но эти "чудачества" вряд
ли будут когда-нибудь забыты, вне зависимости от того, признавать ли их
"волшебными" или стыдиться за них. Да и как забыть примеры варварской
роскоши, когда "светлейший" князь Потемкин на десерт раздавал дамам
блюдца, наполненные бриллиантами, а Демидов кормил у себя в московском
доме едва ли не половину города ежедневно. Граф Разумовский сгонял в
весеннюю распутицу тысячи крепостных крестьян только для того, чтобы они
устроили колоссальную насыпь через реку и дали возможность проехать
графу на другую сторону послушать соловьев... Сын купца и удачливого
откупщика, получившего дворянство при Екатерине, Петр Собакин, собирал у
себя на огромном усадебном дворе в Троицын день до десяти тысяч
крепостных крестьян из окрестных сел и деревень -- и каждый из них
должен был приложиться по очереди к ручке барина, за что мужиков угощали
водкой и пивом из безразмерных чанов, а баб и девок одаривали деньгами и
платками. Под звуки оркестра хор певчих и оркестр и хор, конечно,
"свои", т. е. из собственных собакинских крепостныхпел многолетие
хозяину, а "своя" артиллерийская команда давала 101 оглушительный залп
из пушек. Знаменитый богач, меломан, театрал и
устроитель роскошных пиров Алексей Александрович Плещеев не отставал от
своих вельможных конкурентов по части изобретательности барских затей.
Его гостям надолго запомнилось празднество в честь дня рождения супруги
Алексея Александровича, урожденной графини Чернышевой. Собравшиеся на
прогулку гости с изумлением увидели, как на прежде безлесом месте за
одну ночь, точно по волшебству, выросла ветвистая зеленая роща! Но
удивление сменилось потрясением и затем восторгом, когда вперед вышла
виновница торжества, и вся роща в одно мгновение склонилась перед ней!
Оказалось, что это были свежесрубленные ветви, которые держали перед
собой сотни крепостных. На открывшемся месте возвышался украшенный
цветами и устроенный по греческому образцу жертвенник, рядом с которым
стояла античная "богиня", приветствовавшая именинницу торжественными
стихами. После этого и богиня и жертвенник исчезли и вместо них появился
роскошно убранный стол, уставленный всевозможными напитками и
закусками. Об этом празднике можно рассказывать
долго. Кроме угощения изысканными блюдами пирующих развлекали музыкой,
театральными представлениями, великолепными фейерверками. Но среди
прочего была и забавная деталь -- на видном месте стояла камера обскура,
и ярко наряженный молодец зазывал всех желающих заглянуть в нее. Взору
тех, кто соглашался, представало маленькое чудо -- во внутреннем
пространстве камеры находился прекрасно выполненный портрет именинницы.
Но удивительнее всего было то, что вокруг него подпрыгивали и кружились
живые амуры! В действительности фокус был устроен и
затейливо и просто одновременно: на отдаленном лугу, находящемся
напротив камеры, начертили круг, и крестьянские дети, наряженные
амурами, целый день на жарком солнце плясали около него, а портрет был
поставлен в самой камере так. что занимал пространство круга. Но тяга к оригинальным выдумкам заводила
некоторых помещиков намного дальше. Так, в имении одного богатого графа
парк был украшен прекрасными статуями античных богов и богинь. Однажды
посетители, приехав в неурочный час, с удивлением увидели, что все
постаменты пустуют. На вопрос о том, куда девались изваяния, графский
дворецкий невозмутимо отвечал, что они работают в полях -- дескать,
страда и рабочих рук не хватает... Шокированные сначала таким ответом,
гости поняли, что "статуями" в графском парке служили, оказывается,
крепостные мужчины и женщины, раздетые догола и окрашенные в белую
краску, под цвет мрамора. Сам граф любил прогуливаться по аллеям, а если
кому-нибудь из "статуй" случалось при этом дрогнуть -- того ждала
немедленная расплата за это на конюшне, под розгами кучеров. Палить из пушек, устраивать
импровизированные военные парады из собственных крепостных крестьян,
сгоняя их тысячами на поле перед усадьбой и заставляя маршировать перед
гостями, на манер регулярных войск, наряжать крестьянок нимфами и
наядами -- придумок и развлечений в этом роде было множество. Но все они
отступали перед главной страстью поместного дворянства -- охотой. У богатых помещиков выезд в "отъезжее
поле" напоминал военный поход и по количеству участников с собаками и
лошадьми, и по строгому распорядку внутри отряда, и по оглушительным
звукам труб и рогов, раздававшимся над окрестными полями, а также по
тому опустошению, которое охотники оставляли после себя. Сельский
священник, видевший охотничий поезд помещика Арапова, не мог подобрать
другого сравнения, как сказать, что выезды его в поле -- "это были
выезды Донского на Мамая; сам он, как великий князь, с огромным войском,
а около него увиваются удельные, -- мелкота, кто с одной сворой, кто с
двумя... Далее едут псари по два в ряд в лакированных пальто и фуражках,
с кинжалами за поясом и плетьми, каждый со сворой в руках... За псарями
следовали сами господа в самых разнообразных и фантастических костюмах:
тут были и венгерки, и польки, и казакины, и наряды народов, никогда не
существовавших... Далее простые телеги, фургоны и фуры, запряженные в
одну, две, три лошади с кухней, ящиками, палатками... Всех верховых, по
всей вероятности, было более ста". Но случались выезды многолюднее и
пышнее, чем этот. Тогда охотников сопровождали гости, не принимавшие
активного участия в забаве, и дамы в экипажах, за каждым из которых
следовал конюший с верховой лошадью на тот случай, если настроение гостя
или гостьи переменится и они захотят пересесть в седло. Лучших собак,
чтобы не утомить их раньше времени долгим переходом, везли к месту охоты
в специальных каретах, внешне похожих на обычные, только с низкой
крышей и решетками на окнах, а шествие замыкали стремяные с запасными
лошадьми. В таких выездах принимали участие сотни
человек. Для содержания охотников нанимали или просто отбирали силой
крестьянские избы, из которых выбрасывали всю старую обстановку и
заносили новую мебель, карточные столы, кровати, стены оклеивали обоями.
В отдельной избе устраивали кухню. В остальных размещали обоз, обозных
слуг, псарей с собаками -- для всего требовались иногда десятки домов,
жители которых на несколько дней выгонялись на улицу. С особенным комфортом и заботой
размещали любимую хозяйскую свору. Вообще страстная любовь дворян к
своим охотничьим собакам занимает особое место в быте крепостной эпохи. У
генерала Льва Измайлова на псарне только в одной усадьбе, при селе
Хитровщине, содержалось около 700 собак. И жили они в неизмеримо лучших
условиях, чем генеральские дворовые слуги. Каждая собака имела отдельное
помещение, отменный корм и уход, в то время как крепостные люди
скучивались в смрадных тесных помещениях, питались несвежей пищей и
годами ходили в истрепанной от времени одежде, потому что новой барин не
велел выдавать. Измайлов как-то за обедом спросил
прислуживавшего ему старого камердинера: "Кто лучше: собака или
человек?" Камердинер на свою беду ответил, что даже сравнивать нельзя
человека с бессловесной неразумной тварью, за что барин в гневе тут же
проткнул ему руку вилкой, и, обернувшись к стоявшему рядом дворовому
мальчику, повторил свой вопрос. Мальчик от страха прошептал, что собака
лучше человека. Смягчившийся генерал наградил его серебряным рублем.
Этого дворового слугу звали Лев Хорошевский, и он был незаконнорожденным
сыном самого Измайлова, о чем прекрасно знали и помещик, и все в
усадьбе. Правда, однажды Измайлов все же
несколько изменил своей убежденности в превосходстве собак над людьми,
приравняв их друг другу. Это случилось, когда он выменял у своего
соседа, помещика Шебякина, четырех борзых, отдав за них столько же
дворовых слуг -- кучера, конюха, камердинера и повара. Выезд большого барина на охоту был для
окрестных жителей, и крестьян, и мелких помещиков, из тех, что по
каким-то причинам не присоединились к барской свите, беспокойным
временем. Лихие охотники, наслаждаясь своей безнаказанностью за спиной
всесильного покровителя, не церемонились с чужим имуществом. Всадники
вытаптывали поля, губили посевы, собаки нападали на домашнюю птицу и
скот. Всякий, кто оказывался поблизости, не мог считать себя в
безопасности. Видевший такую охоту современник вспоминал: "Когда псари и
псарня расставятся по местам, то по занятому ими полю не проходи уже и
не проезжай никто -- запорют кнутьями... Это была уже не компания
благородных людей, дворян-охотников, а неистовствующая шайка охальников и
разбойников". Рязанский дворянин Иван Чаплыгин в
детстве встретился с охотничьим поездом генерала Измайлова, и во всю
жизнь не мог забыть произведенного на него впечатления: "В пасмурный, но
недождливый день в конце лета я с братом моим и с гувернером гуляли в
поле, довольно далеко от нашей усадьбы. Вдруг видим: едет, навстречу
нам, большая толпа охотников в нарядных кафтанах. На сворах у них было
множество гончих и борзых собак. За толпой этой тянулся целый ряд линеек
тройками, а на одной, особенно длинной, лежал человек. То был Лев
Дмитриевич Измайлов. Лицо его было одутловато и багрово, большие глаза
горели ярким огнем. Почему-то он очень пристально поглядел в нашу
сторону, и, как мне показалось, именно на меня, -- и чрезвычайно тяжелое
впечатление произвел на меня взор его, в котором, как хорошо помню и
теперь, было что-то необыкновенно жесткое, суровое и повелительное.
Воротившись домой, я рассказал за обедом отцу о встрече нашей с
Измайловской охотой. Отец сильно поморщился. -- Да, -- сказал он, --
этот наезд генеральской охоты на наши поля обойдется мне рублей в
пятьсот, а пожалуй и больше..." За удачную травлю зверя барин мог щедро
наградить. Но за ошибки и промахи следовала немедленная кара. За
упущенного зайца или лису пороли здесь же, в поле, и редкая охота
обходилась без суровых наказаний -- "большею частию вся прислуга кулаком
глаза утирала и вздыхала". Но не только крепостные -- наказанию
подлежал всякий, кто вольно или невольно помешал охотникам. Однажды
псари генерала Измайлова травили матерую лисицу. Зверь уставал, и
собакам оставалось всего несколько последних усилий, чтобы схватить его.
Но тут, как на беду, показалась дорожная карета, запряженная шестью
лошадьми. Она мчалась так быстро, что преградила дорогу охотникам,
собаки замешкались и сбились, лисица убежала. Бешенству Измайлова не было предела. Он
приказал остановить карету -- в ней оказалась знатная дама, богатая и
родовитая петербурская барыня, проезжавшая по своим делам. Но вряд ли и
сама императрица могла бы надеяться избежать кары от разгневанного
шального генерала, лишившегося охотничьей добычи. По приказу Измайлова
дверцы кареты распахнули настежь с обеих сторон, и через экипаж прошел
весь огромный охотничий поезд -- от людей до последней собаки.
Несчастная перепуганная барыня, насильно удерживаемая на месте, должна
была терпеливо вынести это унижение. Она жаловалась потом, но никаких
последствий для Измайлова это дело не имело, так же, как множество
прочих, гораздо более изощренных и разнузданных. Звериная травля не всегда была основной
целью помещика, выезжавшего во главе своей дворни и приживальщиков в
"отъезжее поле". Часто охота заканчивалась грабежом прохожих на дорогах,
разорением крестьянских дворов или погромом усадеб неугодных соседей,
насилием над их домашними, в том числе женами. П. Мельников-Печерский в
своем очерке "Старые годы" приводит рассказ дворового о своей службе у
одного князя: "Верстах в двадцати от Заборья, там, за Ундольским бором,
сельцо Крутихино есть. Было оно в те поры отставного капрала Солоницына:
за увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем
Крутихине с молодой женой, а вывез он ее из Литвы, али из Польши...
Князю Алексею Юрьичу Солоничиха приглянулась... Выехали однажды по лету
мы на красного зверя в Ундольский бор, с десяток лисиц затравили, привал
возле Крутихина сделали. Выложили перед князем Алексеем Юрьичем из
тороков зверя травленого, стоим... А князь Алексей Юрьич сидит, не смотрит
на красного зверя, смотрит на сельцо Крутихино, да так, кажется, глазами
и хочет съесть его. Что это за лисы, говорит, что это за красный зверь?
Вот как бы кто мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не
знай бы что дал. Гикнул я да в Крутихино. А там барынька
на огороде в малинничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я
красотку поперек живота, перекинул за седло да назад. Прискакал да князю
Алексею Юрьичу к ногам лисичку и положил. "Потешайтесь, мол, ваше
сиятельство, а мы от службы не прочь". Глядим, скачет капрал; чуть-чуть
на самого князя не наскакал... Подлинно вам доложить не могу, как дело
было, а только капрала не стало, и литвяночка стала в Заборье во флигеле
жить..." Случаев, когда в наложницах у крупного
помещика оказывалась насильно увезенная от мужа дворянская жена или дочь
-- в эпоху крепостного права было немало. Причину самой возможности
такого положения дел точно объясняет в своих записках Е. Водовозова. По
ее словам, в России главное и почти единственное значение имело
богатство -- "богатым все было можно". Но очевидно, что если жены
незначительных дворян подвергались грубому насилию со стороны более
влиятельного соседа, то крестьянские девушки и женщины были совершенно
беззащитны перед произволом помещиков. А.П. Заблоцкий-Десятовский,
собиравший по поручению министра государственных имуществ подробные
сведения о положении крепостных крестьян, отмечал в своем отчете:
"Вообще предосудительные связи помещиков со своими крестьянками вовсе не
редкость. В каждой губернии, в каждом почти уезде укажут вам примеры...
Сущность всех этих дел одинакова: разврат, соединенный с большим или
меньшим насилием. Подробности чрезвычайно разнообразны. Иной помещик
заставляет удовлетворять свои скотские побуждения просто силой власти, и
не видя предела, доходит до неистовства, насилуя малолетних детей...
другой приезжает в деревню временно повеселиться с приятелями, и
предварительно поит крестьянок и потом заставляет удовлетворять и
собственные скотские страсти, и своих приятелей". Принцип, который оправдывал господское
насилие над крепостными женщинами, звучал так: "Должна идти, коли раба!"
Принуждение к разврату было столь распространено в помещичьих усадьбах,
что некоторые исследователи были склонны выделять из прочих
крестьянских обязанностей отдельную повинность -- своеобразную "барщину
для женщин". Один мемуарист рассказывал про своего
знакомого помещика, что у себя в имении он был "настоящим петухом, а вся
женская половина -- от млада и до стара -- его курами. Пойдет, бывало,
поздно вечером по селу, остановится против какой-нибудь избы, посмотрит в
окно и легонько постучит в стекло пальцем -- и сию же минуту
красивейшая из семьи выходит к нему..." В других имениях насилие носило
систематически упорядоченный характер. После окончания работ в поле
господский слуга, из доверенных, отправляется ко двору того или иного
крестьянина, в зависимости от заведенной "очереди", и уводит девушку --
дочь или сноху, к барину на ночь. Причем по дороге заходит в соседнюю
избу и объявляет там хозяину: "Завтра ступай пшеницу веять, а Арину
женупосылай к барину"... В.И. Семевский писал, что нередко все
женское население какой-нибудь усадьбы насильно растлевалось для
удовлетворения господской похоти. Некоторые помещики, не жившие у себя в
имениях, а проводившие жизнь за границей или в столице, специально
приезжали в свои владения только на короткое время для гнусных целей. В
день приезда управляющий должен был предоставить помещику полный список
всех подросших за время отстутствия господина крестьянских девушек, и
тот забирал себе каждую из них на несколько дней: "когда список
истощался, он уезжал в другие деревни, и вновь приезжал на следующий
год". Все это не было чем-то исключительным,
из ряда вон выходящим, но, наоборот, носило характер обыденного явления,
нисколько не осуждаемого в дворянской среде. А.И. Кошелев писал о своем
соседе: "Поселился в селе Смыкове молодой помещик С., страстный охотник
до женского пола и особенно до свеженьких девушек. Он иначе не позволял
свадьбы, как по личном фактическом испытании достоинств невесты.
Родители одной девушки не согласились на это условие. Он приказал
привести к себе и девушку и ее родителей; приковал последних к стене и
при них изнасильничал их дочь. Об этом много говорили в уезде, но
предводитель дворянства не вышел из своего олимпийского спокойствия, и
дело сошло с рук преблагополучно". Не здесь ли проявляется во всей полноте
"патриархальность" взаимоотношений дворян и их рабов, о которой так
часто любят повторять авторы, склонные идеализировать образ крепостной
эпохи?! Не открывают ли, напротив, эти и прочие бесчисленные
свидетельства произвола и насилия принципиально иной, незнакомый и чужой
образ России периода империи?! Это образ страны, в которой не
"патриархальность", а угнетение собственного народа приобрело характер
эффективной системы государственной политики. Так, К. Аксаков откровенно
сообщал императору Александру II в своей записке о внутреннем положении
в стране: "Образовалось иго государства над землею, и русская земля
стала как бы завоеванною... Русский монарх получил значение деспота, а
народ -- значение раба-невольника в своей земле". Приходится признать, что двести лет
дворянского ига в истории России по своим осуществленным разрушительным
последствиям на характер и нравственность народа, на цельность народной
культуры и традиции превосходят любую потенциальную угрозу, исходившую
когда-либо от внешенего неприятеля. Государственная власть и помещики
поступали и ощущали себя как завоеватели в покоренной стране, отданной
им "на поток и разграбление". Любые попытки крестьян пожаловаться на
невыносимые притеснения со стороны владельцев согласно законам
Российской империи подлежали наказанию, как бунт, и с "бунтовщиками"
поступали соответственно законным предписаниям. Причем воззрение на крепостных крестьян
как на бесправных рабов оказалось столь сильно укорененным в сознании
господствующего класса и правительства, что любое насилие над ними, и
сексуальное в том числе, в большинстве случаев юридически не считалось
преступлением. Например, крестьяне помещицы Кошелевой неоднократно
жаловались на управляющего имением, который не только отягощал их
работами сверх всякой меры, но и разлучал с женами, "имея с ними блудное
соитие". Ответа из государственных органов не было, и доведенные до
отчаяния люди самостоятельно управляющего "прибили". И здесь
представители власти отреагировали мгновенно! Несмотря на то, что после
произведенного расследования обвинения в адрес управляющего в насилии
над крестьянками подтвердились, он не понес никакого наказания и остался
в прежней должности с полной свободой поступать по-прежнему. Но
крестьяне, напавшие на него, защищая честь своих жен, были выпороты и
заключены в смирительный дом. Вообще управляющие, назначаемые
помещиками в свои имения, оказывались не менее жестокими и развратными,
чем законные владельцы. Не имея уже совершенно никаких формальных
обязательств перед крестьянами и не испытывая необходимости заботиться о
будущих отношениях, эти господа, также часто из числа дворян, только
бедных или вовсе беспоместных, получали над крепостными неограниченную
власть. Для характеристики их поведения в усадьбах можно привести
отрывок из письма дворянки к своему брату, в имении которого и
владычествовал такой управляющий, правда, в этом случае -- из немцев. "Драгоценнейший и всею душою и сердцем
почитаемый братец мой!.. Многие помещики наши весьма изрядные
развратники: кроме законных жен, имеют наложниц из крепостных,
устраивают у себя грязные дебоши, частенько порют своих крестьян, но не
злобствуют на них в такой мере, не до такой грязи развращают их жен и
детей... Все ваши крестьяне совершенно разорены, изнурены, вконец
замучены и искалечены не кем другим, как вашим управителем, немцем
Карлом, прозванным у нас "Карлою", который есть лютый зверь, мучитель...
Сие нечистое животное растлил всех девок ваших деревень и требует к
себе каждую смазливую невесту на первую ночь. Если же сие не понравится
самой девке либо ее матери или жениху, и они осмелятся умолять его не
трогать ее, то их всех, по заведенному порядку, наказывают плетью, а
девке-невесте на неделю, а то и на две надевают
на шею для помехи спанью рогатку. Рогатка замыкается, а ключ Карла
прячет в свой карман. Мужику же, молодому мужу, выказавшему
сопротивление тому, чтобы Карла растлил только что повенчанную с ним
девку, обматывают вокруг шеи собачью цепь и укрепляют ее у ворот дома,
того самого дома, в котором мы, единокровный и единоутробный братец мой,
родились с вами..." Впрочем, автор этого письма, хотя и
отзывается нелицеприятно об образе жизни русских помещиков, все-таки
склонна несколько возвышать их перед "нечистым животным Карлою".
Изучение быта крепостной эпохи показывает, что это намерение вряд ли
справедливо. В том циничном разврате, который демонстрировали по
отношению к подневольным людям российские дворяне, с ними трудно было
соперничать, и любому иноземцу оставалось только подражать "природным"
господам. Так, проведя несколько лет в кутежах и
всевозможных удовольствиях, один гвардейский офицер К. вдруг обнаружил,
что из всего немалого некогда состояния у него осталась
одна-единственная деревенька, населенная несколькими десятками
крестьянских "душ". Это неприятное открытие так повлияло на офицера и
его образ жизни, что прежние друзья не могли узнать бывшего кутилу и
собутыльника. Он стал избегать шумных сборищ, просиживал долгие часы за
столом в кабинете, разбирая какие-то бумаги. Пропал однажды из
Петербурга и только потом выяснилось, что он ездил в свое имение и
провел там много времени. Все решили, что славный гвардеец надумал
превратиться в провинциального помещика и заняться сельским хозяйством.
Однако вскоре стало известно, что К. распродал все мужское население
усадьбы -- одних на своз соседям, других в рекруты. В деревне остались
только бабы, и друзьям К. было совершенно непонятно, как с такими силами
он собирается вести хозяйство. Они не давали ему прохода с расспросами и
наконец вынудили рассказать им свой план. Гвардеец сказал приятелям:
"Как вам известно, я продал мужиков из своей деревни, там остались
только женщины да хорошенькие девки. Мне только 25 лет, я очень крепок,
еду я туда, как в гарем, и займусь заселением земли своей... Через каких-нибудь десять лет я буду
подлинным отцом нескольких сот своих крепостных, а через пятнадцать пущу
их в продажу. Никакое коннозаводство не даст такой точной и верной
прибыли". Даже друзьям К., людям достаточно
испорченным, эта идея показалась черезчур сумасбродной. Однако гвардеец
остался при своем мнении и отправился в деревню приводить план в
исполнение. Если и относиться к этому рассказу, как к
анекдоту, хотя и основанному на реальных событиях, то в любом случае
возможностей для заработка на растлении своих крепостных рабов у русских
душевладельцев существовало немало, и они с успехом ими пользовались.
Одни отпускали "девок" на оброк в города, прекрасно зная, что они будут там заниматься проституцией, и даже специально направляя их силой в
дома терпимости. Другие поступали не так грубо и подчас с большей
выгодой для себя. Француз Шарль Массон рассказывает в своих записках: "У
одной петербургской вдовы, госпожи Поздняковой, недалеко от столицы
было имение с довольно большим количеством душ. Ежегодно по ее
приказанию оттуда доставлялись самые красивые и стройные девочки,
достигшие десяти--двенадцати лет. Они воспитывались у нее в доме под
надзором особой гувернантки и обучались полезным и приятным искусствам.
Их одновременно обучали и танцам, и музыке, и шитью, и вышиванью, и
причесываныо и др., так что дом ее, всегда наполненный дюжиной
молоденьких девушек, казался пансионом благовоспитанных девиц. В
пятнадцать лет она их продавала: наиболее ловкие попадали горничными к
дамам, наиболее красивые -- к светским развратникам в качестве любовниц.
И так как она брала до 500 рублей за штуку, то это давало ей
определенный ежегодный доход". Императорское правительство всегда
чрезвычайно гостеприимно относилось к иностранцам, пожелавшим остаться в
России. Им щедро раздавали высокие должности, жаловали громкие титулы,
ордена и, конечно, русских крепостных крестьян. Иноземцы, оказавшись в
таких благоприятных условиях, жили в свое удовольствие и благословляя
русского императора. Барон Н.Е. Врангель, сам потомок выходцев из чужих
земель, вспоминал о своем соседе по имению, графе Визануре, ведшим
совершенно экзотический образ жизни. Его отец был индусом или афганцем и
оказался в России в составе посольства своей страны в период правления
Екатерины II. Здесь этот посол умер, а его сын по каким-то причинам
задержался в Петербурге и был окружен благосклонным вниманием
правительства. Его отдали на учебу в кадетский корпус, а по окончании
наделили поместьями и возвели в графское достоинство Российской империи. На российской земле новоявленный граф не
собирался отказываться от обычаев своей родины, тем более что его к
этому никто и не думал принуждать. Он не стал возводить у себя в имении
большого усадебного дома, но вместо этого построил несколько небольших
уютных домиков, все в разных стилях, по преимуществу восточных --
турецком, индийском, китайском. В них он поселил насильно взятых из
семей крестьянских девушек, наряженных сообразно стилю того дома, в
котором они жили, -- соответственно китаянками, индианками и турчанками.
Устроив таким образом свой гарем, граф наслаждался жизнью,
"путешествуя" -- т. е. бывая поочередно то у одних, то у других
наложниц. Врангель вспоминал, что это был немолодой, некрасивый, но
любезный и превосходно воспитанный человек. Посещая своих русских
невольниц, он также одевался, как правило, в наряд, соответствующий
стилю дома -- то китайским мандарином, то турецким пашой. Но крепостные гаремы заводили у себя в
имениях не только выходцы из азиатских стран -- им было чему поучиться в
этом смысле у русских помещиков, которые подходили к делу без лишней
экзотики, практически. Гарем из крепостных "девок" в дворянской усадьбе
XVIII-XIX столетий -- это такая же неотъемлемая примета "благородного"
быта, как псовая охота или клуб. Конечно, не всякий помещик имел гарем, и
точно так же не все участвовали в травле зверя или садились
когда-нибудь за карточный стол. Но не добродетельные исключения, к
сожалению, определяли образ типичного представителя высшего сословия
этой эпохи. Из длинного ряда достоверных, "списанных
с натуры" дворянских персонажей, которыми так богата русская
литература, наиболее характерным будет именно Троекуров. Каждый русский
помещик был Троекуровым, если позволяли возможности, или хотел быть,
если средств для воплощения мечты оказывалось недостаточно.
Примечательно, что в оригинальной авторской версии повести "Дубровский",
непропущенной императорской цензурой и до сих пор малоизвестной, Пушкин
писал о повадках своего Кириллы Петровича Троекурова: "Редкая девушка
из дворовых избегала сластолюбивых покушений пятидесятилетнего старика.
Сверх того, в одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных...
Окна во флигель были загорожены решеткой, двери запирались замками, от
коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодыя затворницы в
положенные часы ходили в сад и прогуливались под надзором двух старух.
От времени до времени Кирилла Петрович выдавал некоторых из них замуж, и
новые поступали на их место..." Семевский В.И. Крестьянский вопрос в
XVIII и первой половине XIX в. Т. 2. СПб., 1888 г., с. 258.) Большие и маленькие Троекуровы населяли
дворянские усадьбы, кутили, насильничали и спешили удовлетворить любые
свои прихоти, нимало не задумываясь о тех, чьи судьбы они ломали. Один
из таких бесчисленных типов -- рязанский помещик князь Гагарин, о
котором сам предводитель дворянства в своем отчете отзывался, что образ
жизни князя состоит "единственно в псовой охоте, с которою он, со своими
приятелями, и день и ночь ездит по полям и по лесам и полагает все свое
счастие и благополучие в оном". При этом крепостные крестьяне Гагарина
были самыми бедными во всей округе, поскольку князь заставлял их
работать на господской пашне все дни недели, включая праздники и даже
Святую Пасху, но не переводя на месячину. Зато как из рога изобилия
сыпались на крестьянские спины телесные наказания, и сам князь
собственноручно раздавал удары плетью, кнутом, арапником или кулаком --
чем попало. Завел Гагарин и свой гарем: "В его доме
находятся две цыганки и семь девок; последних он растлил без их
согласия, и живет с ними; первые обязаны были учить девок пляске и
песням. При посещении гостей они составляют хор и забавляют
присутствующих. Обходится с девками князь Гагарин так же жестоко, как и с
другими, часто наказывает их арапником. Из ревности, чтобы они никого
не видали, запирает их в особую комнату; раз отпорол одну девку за то,
что она смотрела в окно". Примечательно, что дворяне уезда,
соседи-помещики Гагарина, отзывались о нем в высшей степени
положительно. Как один заявлял, что князь не только что "в поступках,
противных дворянской чести не замечен", но, более того, ведет жизнь и
управляет имением "сообразно прочим благородным дворянам"! Последнее
утверждение, в сущности, было абсолютно справедливо. В отличие от причуд экзотического графа
Визанура, гарем обычного помещика был лишен всякой театральности или
костюмированности, поскольку предназначался, как правило, для
удовлетворения совершенно определенных потребностей господина. Гагарин
на общем фоне еще слишком "артистичен" -- он обучает своих невольных
наложниц пению и музыке с помощью нанятых цыганок. Совершенно иначе
устроен быт другого владельца, Петра Алексеевича Кошкарова. Это был пожилой, достаточно
состоятельный помещик, лет семидесяти. Я. Неверов вспоминал: "Быт
женской прислуги в его доме имел чисто гаремное устройство... Если в
какой-ибо семье дочь отличалась красивой наружностью, то ее брали в
барский гарем". Около 15 молодых девушек составляли
женскую "опричнину" Кошкарова. Они прислуживали ему за столом,
сопровождали в постель, дежурили ночью у изголовья. Дежурство это носило
своеобразный характер: после ужина одна из девушек громко объявляла на
весь дом, что "барину угодно почивать". Это было сигналом для того,
чтобы все домашние расходились по своим комнатам, а гостиная
превращалась в спальню Кошкарова. Туда вносили деревянную кровать для
барина и тюфяки для его "одалисок", располагая их вокруг господской
постели. Сам барин в это время творил вечернюю молитву. Девушка, чья
очередь тогда приходилась, раздевала старика и укладывала в постель.
Впрочем, то, что происходило дальше, было совершенно невинно, но
объяснялось исключительно преклонным возрастом хозяина -- дежурная
садилась на стул рядом с господским изголовьем и должна была
рассказывать сказки до тех пор, пока барин не уснет, самой же спать во
всю ночь не разрешалось ни в коем случае! Утром она поднималась со
своего места, растворяла запертые на ночь двери гостиной и возвещала,
также на весь дом: "барин приказал ставни открывать"! После этого она
удалялась спать, а заступившая ее место новая дежурная поднимала барина с
кровати и одевала его. При всем при том быт старого самодура
все же не лишен некоторой доли извращенного эротизма. Неверов пишет:
"Раз в неделю Кошкаров отправлялся в баню, и его туда должны были
сопровождать все обитательницы его гарема, и нередко те из них, которые
еще не успели, по недавнему нахождению в этой среде, усвоить все ее
взгляды, и в бане старались спрятаться из стыдливости, -- возвращались
оттуда битыми". Побои доставались кошкаровским
"опричницам" и просто так, особенно по утрам, во время между
пробуждением и до чаепития с неизменной трубкой табаку, когда
престарелый барин чаще всего бывал не в духе. Неверов подчеркивает, что
наказывали в доме Кошкарова чаще всего именно девушек из ближней
прислуги, а наказаний дворовых мужчин было значительно меньше: "Особенно
доставалось бедным девушкам. Если не было экзекуций розгами, то многие
получали пощечины, и все утро раздавалась крупная брань, иногда без
всякого повода". Так развращенный помещик проводил дни
своей бессильной старости. Но можно себе представить, какими оргиями
были наполнены его молодые годы -- и подобных ему господ, безраздельно
распоряжавшихся судьбами и телами крепостных рабынь. Однако важнее
всего, что происходило это в большинстве случаев не из природной
испорченности, но было неизбежным следствием существования целой системы
социальных отношений, освященной авторитетом государства и неумолимо
развращавшей и рабов и самих рабовладельцев. С детства будущий барин, наблюдая за
образом жизни родителей, родственников и соседей, рос в атмосфере
настолько извращенных отношений, что их порочность уже не осознавалась
вполне их участниками. Анонимный автор записок из помещичьего быта
вспоминал: "После обеда полягутся все господа спать. Во все время, пока
они спят, девочки стоят у кроватей и отмахивают мух зелеными ветками,
стоя и не сходя с места... У мальчиков-детей: одна девочка веткой
отмахивала мух, другая говорила сказки, третья гладила пятки.
Удивительно, как было распространено это, -- и сказки и пятки, -- и
передавалось из столетия в столетие! Когда барчуки подросли, то им
приставлялись только сказочницы. Сидит девочка на краю кровати и тянет:
И-ва-н ца-ре-вич... И барчук лежит и выделывает с ней штуки... Наконец
молодой барин засопел. Девочка перестала говорить и тихонько привстала.
Барчук вскочит, да бац в лицо!.. "Ты думаешь, что я уснул?" -- Девочка, в
слезах, опять затянет: И-ва-н ца-ре-вич..." Другой автор, А. Панаева, оставила
только краткую зарисовку всего нескольких типов "обычных" дворян и их
повседневного быта, но и этого вполне достаточно, чтобы представить
среду, в которой рос маленький барчук и которая формировала детскую
личность таким образом, чтобы в старости превратить его в очередного
кошкарова. В упоминавшееся уже в предыдущей главе
дворянское имение, для раздела имущества после умершего помещика,
собрались близкие и дальние родственники. Приехал дядя мальчика. Это
старый человек, имеющий значительный общественный вес и влияние. Он
холостяк, но содержит многочисленный гарем; выстроил у себя в усадьбе
двухэтажный каменный дом, куда и поместил крепостных девушек. С
некоторыми из них он, не стесняясь, приехал на раздел, они сопровождают
его днем и ночью. Да никому из окружающих и не приходит в голову
стесняться данным обстоятельством, оно кажется всем естественным,
нормальным. Правда, через несколько лет имение этого уважаемого человека
правительство все же будет вынуждено взять в опеку, как сказано в
официальном определении: "за безобразные поступки
вопиюще-безнравственного характера"... А вот младший брат развратника, он отец
мальчика. Панаева говорит о нем, что он "добряк", и это, наверное, так.
Его жена, мать мальчика, добропорядочная женщина, хорошая хозяйка. Она
привезла с собой несколько дворовых "девок" для услуг. Но дня не
проходило, чтобы она, на глазах у сына, не била и не щипала их за любую
оплошность. Эта барыня хотела видеть своего ребенка гусарским офицером
и, чтобы приучить его к необходимой выправке, каждое утро на четверть
часа ставила его в специально устроенную деревянную форму, принуждавшую
без движения стоять по стойке смирно. Тогда мальчик "от скуки развлекал
себя тем, что плевал в лицо и кусал руки дворовой девушке, которая
обязана была держать его за руки", -- пишет Панаева, наблюдавшая эти
сцены. В целях выработки в мальчике командных
навыков мамаша на лужайку сгоняла крестьянских детей, а барчук длинным
прутом немилосердно бил тех, кто плохо перед ним маршировал. Насколько
обычной была описанная картина, подтверждает множество свидетельств
очевидцев и даже невольных участников. Крепостной человек Ф. Бобков
вспоминал о развлечении господ, когда они приезжали в усадьбу: "Помню,
как барыня, сидя на подоконнике, курила трубку и смеялась, глядя на игру
сына, который сделал из нас лошадок и подгонял хлыстом...". Эта достаточно "невинная" на первый
взгляд барская забава в действительности несла в себе важное значение
прививки дворянскому ребенку определенных социальных навыков,
стереотипов поведения по отношению к окружающим рабам. Можно сказать,
что эта "игра" в лошадок и чудливые, но неизменно уродливые или
трагикомические формы. Будущее этого гнезда, целой дворянской фамилии,
предстоит продолжать внебрачным детям. Но их психика в немалой степени
травмирована осознанием своей социальной неполноценности. Даже получая
со временем все права "благородного российского дворянства", они не
могут забыть тяжелых впечатлений, перенесенных в детские годы. Таковы
литературные персонажи, прототипы которых подсмотрены в реальной
жизни, -- Лаврецкий Тургенева, Аркадий Долгорукий -- Достоевского,
многие иные. Таков и сам А. Герцен, получивший от своего отца, знатного
московского барина И.А. Яковлева, и богатство и прекрасное образование
-- всё, кроме законного имени, переживший унизительные объяснения с
отцом по поводу собственного происхождения и двусмысленного положения в
отцовском доме своей матери. Подобно Кошкаровым, из трех братьев
Яковлевых ни один не женат. Иван Алексеевич имеет содержанку, мать
Герцена, вывезенную из Германии, и живет с ней "как с женой", воспитывая
от нее двух внебрачных сыновей. Его старший брат содержит у себя в
московском доме большой гарем, "сераль" -- по выражению Герцена, и
множество незаконных детей. И только под конец жизни он решает одного из
них, причем, как кажется, выбранного совершенно произвольно, признать
официально своим сыном с передачей фамилии и прав состояния. И делает он
это исключительно для того, чтобы после смерти его наследство не
досталось братьям, с которыми он в ссоре. Барин умирает, и признанный
сын, которого можно назвать настоящим счастливцем, наследует ему, в то
время как остальные мгновенно отброшены к самому общественному дну, без
средств, без имени, без прошлого и будущего, произведенные на свет
"отцом" по случайному капризу и без всяких обязательств. Им повезло, что
их сводный брат оказывается совестливым человеком. Он распускает
отцовский гарем и отпускает заключенных в нем женщин на свободу, свою
мать оставляя при себе. Остальным детям назначает содержание, некоторых
из них берут на воспитание другие московские родственники, где, впрочем,
жизнь этих бедных приживалов будет нелегкой. Наконец, словно в
завершение, а точнее -- в продолжение всей этой внебрачной эпопеи,
незаконнорожденный А. Герцен женится на своей кузине, также
незаконнорожденной, дочери А.А. Яковлева и крепостной крестьянки... Но это все в общем счастливые судьбы. На
каждую из подобных историй с хотя бы относительно благополучным концом
приходились тысячи настоящих трагедий. Нравственное одичание русских помещиков
доходило до крайней степени. В усадебном доме среди дворовых людей,
ничем не отличаясь от слуг, жили внебрачные дети хозяина или его гостей и
родственников, оставивших после своего посещения такую "память".
Дворяне не находили ничего странного в том, что их собственные, хотя и
незаконнорожденные, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры
находятся на положении рабов, выполняют самую черную работу,
подвергаются жестоким наказаниям, а при случае их и продавали на
сторону. Е. Водовозова описала, как в доме ее
матери жила такая дворовая женщина -- "она была плодом любви одного
нашего родственника и красавицы-коровницы на нашем скотном дворе".
Положение Минодоры, как ее звали, пока был жив отец мемуаристки,
страстный любитель домашнего театра, было довольно сносным. Она
воспитывалась с дочерьми хозяина, даже могла немного читать и говорить
по-французски и принимала участие в домашних спектаклях. Мать
Водовозовой, взявшая на себя управление имением после смерти мужа,
завела совершенно иные порядки. Перемены тяжело отразились на судьбе
Минодоры. Как на беду, девушка и хрупким сложением и изысканными
манерами напоминала скорее благородную барышню, чем обычную дворовую
"девку". Водовозова писала об этом: "То, что у нас ценили в ней прежде
-- ее прекрасные манеры и элегантность, необходимые для актрисы и для
горничной в хорошем доме, -- было теперь, по мнению матушки, нам не ко
двору. Прежде Минодора никогда не делала никакой грязной работы, теперь
ей приходилось все делать, и ее хрупкий, болезненный организм был для
этого помехою: побежит через двор кого-нибудь позвать -- кашель одолеет,
принесет дров печку истопить -- руки себе занозит, и они у нее
распухнут. У матушки это все более вызывало пренебрежение к ней: она все
с большим раздражением смотрела на элегантную Минодору. К тому же нужно
заметить, что матушка вообще недолюбливала тонких, хрупких, бледнолицых
созданий и предпочитала им краснощеких, здоровых и крепких женщин... В
этой резкой перемене матушки к необыкновенно кроткой Минодоре, ничем не
провинившейся перед нею, наверно, немалую роль играла вся ее внешность
"воздушного созданья". И вот положение Минодоры в нашем доме становилось
все более неприглядным: страх... и вечные простуды ухудшали ее слабое
здоровье: она все сильнее кашляла, худела и бледнела. Выбегая на улицу
по поручениям и в дождь и в холод, она опасалась накинуть даже платок,
чтобы не подвергнуться попрекам за "барство"". Наконец барыня, видя, что извлечь
практическую пользу от такой слишком утонченной рабы не удастся,
успокоилась на том, что продала свою крепостную родственницу вместе с ее
мужем знакомым помещикам. Если добропорядочная вдова, заботливая
мать для своих дочерей, могла посупать так цинично и жестоко, то о
нравах помещиков более решительных и отчаянных дает представление
описание жизни в усадьбе генерала Льва Измайлова. Информация о несчастном положении
генеральской дворни сохранилась благодаря документам уголовного
расследования, начатого в имении Измайлова после того, как стали
известны происходившие там случаи несколько необыкновенного даже для
того времени насилия и разврата. Измайлов устраивал колоссальные попойки
для дворян всей округи, на которые свозили для развлечения гостей
принадлежащих ему крестьянских девушек и женщин. Генеральские слуги
объезжали деревни и насильно забирали женщин прямо из домов. Однажды,
затеяв такое "игрище" в своем сельце Жмурове, Измайлову показалось, что
"девок" свезено недостаточно, и он отправил подводы за пополнением в
соседнюю деревню. Но тамошние крестьяне неожиданно оказали сопротивление
-- своих баб не выдали и, кроме того, в темноте избили Измайловского
"опричника" -- Гуська. Взбешенный генерал, не откладывая мести
до утра, ночью во главе своей дворни и приживалов налетел на мятежную
деревню. Раскидав по бревнам крестьянские избы и устроив пожар, помещик
отправился на дальний покос, где ночевала большая часть населения
деревни. Там ничего не подозревающих людей повязали и пересекли. Встречая гостей у себя в усадьбе,
генерал, по-своему понимая обязанности гостеприимного хозяина,
непременно каждому на ночь предоставлял дворовую девушку для
"прихотливых связей", как деликатно сказано в материалах следствия.
Наиболее значительным посетителям генеральского дома по приказу помещика
отдавались на растление совсем молодые девочки двенадцати-тринадцати
лет. В главной резиденции Измайлова, селе
Хитровщине, рядом с усадебным домом располагалось два флигеля. В одном
из них размещалась вотчинная канцелярия и арестантская, в другом --
помещичий гарем. Комнаты в этом здании имели выход на улицу только через
помещения, занимаемые собственно помещиком. На окнах стояли железные
решетки. Число наложниц Измайлова было постоянным
и по его капризу всегда равнялось тридцати, хотя сам состав постоянно
обновлялся. В гарем набирались нередко девочки 10-12 лет и некоторое
время подрастали на глазах господина. Впоследствии участь их всех была
более или менее одинакова -- Любовь Каменская стала наложницей в 13 лет,
Акулина Горохова в 14, Авдотья Чернышова на 16-м году. Одна из затворниц генерала, Афросинья
Хомякова, взятая в господский дом тринадцати лет от роду, рассказывала,
как двое лакеев среди белого дня забрали ее из комнат, где она
прислуживала дочерям Измайлова, и притащили едва не волоком к генералу,
зажав рот и избивая по дороге, чтобы не сопротивлялась. С этого времени
девушка была наложницей Измайлова несколько лет. Но когда она посмела
просить разрешения повидаться с родственниками, за такую "дерзость" ее
наказали пятидесятью ударами плети. Содержание обитательниц генеральского
гарема было чрезвычайно строгим. Для прогулки им предоставлялась
возможность только ненадолго и под бдительным присмотром выходить в сад,
примыкавший к флигелю, никогда не покидая его территории. Если
случалось сопровождать своего господина в поездках, то девушек
перевозили в наглухо закрытых фургонах. Они не имели права видеться даже
с родителями, и всем вообще крестьянам и дворовым было строжайше
запрещено проходить поблизости от здания гарема. Тех, кто не только что
смел пройти под окнами невольниц, но и просто поклониться им издали --
жестоко наказывали. Быт генеральской усадьбы не просто строг
и нравственно испорчен -- он вызывающе, воинствующе развратен. Помещик
пользуется физической доступностью подневольных женщин, но в первую
очередь пытается растлить их внутренне, растоптать и разрушить духовные
барьеры, и делает это с демоническим упорством. Беря в свой гарем двух
крестьянок -- родных сестер, Измайлов принуждает их вместе, на глазах
друг у друга "переносить свой позор". А наказывает он своих наложниц не
за действительные проступки, даже не за сопротивление его
домогательствам, а за попытки противостоять духовному насилию. Авдотью
Коноплеву он собственноручно избивает за "нежелание идти к столу
барскому, когда барин говорил тут непристойные речи". Ольга Шелупенкова
также была таскана за волосы за то, что не хотела слушать барские
"неблагопристойные речи". А Марья Хомякова была высечена плетьми потому
только, что "покраснела от срамных слов барина"... Измайлов подвергал своих наложниц и
более серьезным наказаниям. Их жестоко пороли кнутом, одевали на шею
рогатку, ссылали на тяжелые работы и проч. Нимфодору Хорошевскую, или, как Измайлов
звал ее, Нимфу, он растлил, когда ей было менее 14 лет. Причем
разгневавшись за что-то, он подверг девушку целому ряду жестоких
наказаний: "сначала высекли ее плетью, потом арапником и в продолжение
двух дней семь раз ее секли. После этих наказаний три месяца находилась
она по прежнему в запертом гареме усадьбы, и во все это время была
наложницей барина..." Наконец, ей обрили половину головы и сослали на
поташный завод, где она провела в каторжной работе семь лет. Но следователями было выяснено
совершенно шокировавшее их обстоятельство, что родилась Нимфодора в то
время, как ее мать сама была наложницей и содержалась взаперти в
генеральском гареме. Таким образом, эта несчастная девушка оказывается
еще и побочной дочерью Измайлова! А ее брат, также незаконнорожденный
сын генерала, Лев Хорошевский -- служил в "казачках" в господской
дворне. Сколько в действительности у Измайлова
было детей, так и не установлено. Одни из них сразу после рождения
терялись среди безликой дворни. В других случаях беременную от помещика
женщину отдавали замуж за какого-нибудь крестьянина. Сам Измайлов признавал своими настоящими
детьми только троих. Хотя в разное время это число менялось. Например,
Лев Хорошевский до девятилетнего возраста воспитывался в господских
комнатах. К нему была приставлена прислуга, и он рос настоящим
барчонком. Генерал показывал его гостям и заявлял: "Вот это так
настоящий мой сын". Но в одно мгновение по какой-то барской блажи все
изменилось, и участь ребенка была решена -- он превратился в обычного
дворового слугу. Причем подобным же образом складывалась судба еще
нескольких сыновей Измайлова. Николай Нагаев также воспитывался
барчонком до семи лет, за ним ухаживали няньки и кормилицы,
удовлетворялся любой его каприз, но потом, когда в немилость попала его
мать, и он был удален из господской половины и "разделил решительно во
всем общую долю хитровщинских дворовых". Повзрослев, он был назначен
писарем. Евграф Лошаков прожил на положении любимого сына сумасбродного
генерала и вовсе до 12-летнего возраста, а потом оказался в рядах самых
отверженных и бесправных обитателей этой усадьбы, так что не имел даже
обуви и выпрашивал у других обноски, а с весны до глубокой осени ходил
босым. При этом другой сын Измайлова, Дмитрий, представляет собой
удивительно счастливое исключение. Каким-то чудом он избежал повторения
трагической судьбы остальных братьев и после смерти отца по его
завещанию получил огромное состояние -- несколько сотен тысяч рублей
ассигнациями и большой дом в Москве... Так, Лев Измайлов убедительно доказывал,
что в условиях российской крепостной действительности сумасбродный план
гвардейского офицера, собиравшегося разводить и затем продавать
собственных детей от крестьянок, не только не являлся анекдотом, но был
совершенно реален. Отличие состояло в том, что богатый генерал не имел в
разврате никаких меркантильных целей и стремился только к
удовлетворению своих страстей. * * * Одним из самых распространенных
развлечений дворянского общества со второй половины XVIII столетия
становится театр. Начавшись как забава, очень скоро увлечение
театральными представлениями приобретает характер настоящей страсти.
Однако, как и во всем дворянском быте эпохи крепостничества, и здесь
понятие собственности, определение "свое" имеет решающее значение.
Театр, конечно, хорош, но престижнее всего иметь именно собственный театр, своих актеров. Это было предметом для настоящей гордости -- очевидец
вспоминал, как один из таких доморощенных театралов, не сдержав
распиравшего его восторга во время представления у себя в усадьбе,
вскочил с места, воскликнув: "Это все мои дворовые ребята!" Другой владелец собственного театра, помещик
Кологривов, нежелание посещать чужие представления объяснял с
обезоруживающей искренностью: "У меня на сцене, как я приду посмотреть,
все актеры и певчие раскланиваются, к вам же приедешь в театр, никто
меня не заметит и не раскланяется..." Служению искусству всецело посвящают
себя аристократы и бедные помещики, не жалея ни средств, ни сил для
воплощения своей мечты. Громкой славой пользовались театры Шереметева,
Апраксина, Дурасова. На представлениях во дворце графа С. Апраксина
собирался весь цвет московской знати, и там действительно было на что
посмотреть. Перед зрителями многолюдная массовка изображала целые армии.
На сцену выбегали по ходу действия живые лошади и даже олени, за
кулисами гремели рога, трубы, слышался оглушительный лай охотничих
собачьих свор... Кроме крепостных артистов у Апраксина в спектаклях
принимали участие иностранные театральные знаменитости, актеры
императорского театра и даже знатные москвичи-любители, такие как А.М.
Пушкин и Ф.Ф. Кокошкин. В подмосковном селе Люблино помещика Н.
А. Дурасова давались еще более впечатляющие представления. Англичанка
Мэри Вильмот, побывавшая на одном из дурасовских спектаклей, была
сначала поражена роскошью декораций, костюмов и многолюдностью оркестра и
актеров на сцене, а потом еще более -- извинениями хозяина за бедность
постановки, вынужденную тем, что большинство артистов находятся на
полевых работах, и та "горсть людей", которых она видит а их было по ее
наблюдениям не меньше сотни), это, к сожалению, все, что успели собрать
за короткое время. У графа Шереметева было три театра --
один в Москве и два в подмосковных селах Останкино и Кусково.
Исключительное богатство Шереметевых позволило им и театральное дело
поставить столь широко, что слава их представлений затмила домашние
спектакли всех остальных владельцев. Театр в Кусково представлял собой
отдельный замкнутый мир со своим обширным населением и строгим
управлением, вместе составлявшими сложную иерархию, но верховным
господином в котором являлся, конечно, сам граф. Для персонала в имении
были выстроены отдельные корпуса. Штат музыкантов и певчих, танцовщиц,
актрис и актеров, рабочих, декораторов, художников насчитывал сотни
людей. А по описи, составленной в 1811 году, при кусковском театре
только костюмов и платья было 17 сундуков, а всевозможных аксессуаров --
перьев, головных уборов, обуви и т. п. -- 76 сундуков. Большинство участников графских
спектаклей были крепостными Шереметева, в том числе и главный режиссер и
автор многих пьес -- В. Вороблевский. Хотя в спектаклях принимали
участие и приглашенные исполнители -- звезды столичной сцены и приезжие
иностранцы. Артистов обучали известные педагоги Дмитревский, Козелли,
Сандунов. В результате постановки были не только высокого
художественного уровня, но и шли рука об руку с техническим прогрессом.
Специальный поверенный Шереметева закупал заграницей и присылал в
Кусково или Останкино новинки театральной техники. И все же наибольшую известность рощам
Кускова и Останкина принесли не превосходно выполненные театральные
представления на сцене, а умение графа повседневную жизнь превратить в
театр. Шереметевские праздничные гуляния привлекали к себе все население
Москвы. Число гостей на таких праздниках, только официально приглашеных
от имени хозяина, доходило до нескольких тысяч, а всего в аллеях парка
собиралось до пятидесяти тысяч человек, которые могли свободно
прогуливаться, развлекаться и угощаться на графский счет. В гости к
Шереметеву часто приезжали русские самодержцы в сопровождении правителей
иностранных государств. В таких случаях стол сервировался золотой
посудой, украшенной крупными бриллиантами, сад и парк ярко освещались,
на пруду плавали гондолы с музыкантами, а во время фейерверка запускали
разом по нескольку тысяч ракет. Рассказывали, что австрийский император
Иосиф, посетив Кусково, не хотел поверить, что столь роскошное
празднество может позволить себе обыкновенный подданный, и долго был
убежден, что оказался в гостях у неизвестной ему могущественной
венценосной особы. Люди, менее достаточные в средствах, чем
граф Шереметев, были вынуждены и представления своих домашних артистов
обставлять скромнее и с меньшим изяществом. Андрей Болотов так описывал
театральный вечер, проведенный в гостях у знакомого помещика:
"Вздумалось другу нашему нас повеселить и позабавить. Но если бы
дозволяла благопристойность, то двадцать раз поклонился бы я ему, если
бы он сию забаву оставил, ибо она состояла в свисте, крике и пляске баб,
девок и мужиков и всякого вздора..." Увлечение театральным искусством было
недешевым удовольствием и часто сильно подрывало благосостояние вполне
богатых помещиков, а для средних душевладельцев нередко становилось
причиной настоящего разорения. Отец мемуаристки Водовозовой во время
своего пребывания в Варшаве "заболел" театром. Вернувшись домой, в свое
маленькое поместье, он с энтузиазмом принялся за создание собственной
труппы из тщательно отобранных крепостных крестьян. Постановки вскоре
заслужили популярность и стали собирать посетителей-помещиков с
семействами со всей округи. Водовозова пишет, что этот маленький театр,
не имевший даже специального помещения и устроенный в одной из больших
комнат городского дома, на сцене которого играли вместе и крепостные
актеры и дети помещика, имел просветительскую функцию. Многие
соседи-дворяне, посетившие спектакли, впервые узнали о существовании
Шекспира и Мольера и получили возможность своими глазами увидеть "Горе
от ума" -- пьесу, о которой так много говорили в свое время, но толком
ничего не знали. Театральный реквизит был до крайности
скромным: бумажные короны, оклеенные фольгой и цветными бусами,
деревянные шпаги и сабли, незамысловатые наряды "артистов", сработанные
домашними крепостными мастерицами, -- все было столь самодеятельно, что,
по словам мемураистки: "таким театром могли забавляться лишь дети в
небогатой семье, никто бы не поверил, что образованный, серьезный
человек мог отдавать ему все свои силы, душевные и материальные". И
все-таки Водовозова утверждает, что даже такой домашний театр стал одной
из главных причин окончательного разорения ее отца. Сложившиеся к тому времени крепостные
театральные традиции, тон которым задавали во многом богатейшие
вельможи, подобно Шереметеву, обязывали хозяина сцены не только показать
посетителям представление, причем, разумеется, бесплатно, но и
накормить их обедом и ужином, и оставить ночевать, и заботиться об их
досуге и развлечении на следующий день и далее до тех пор, пока гости не
соизволят собраться в обратный путь. Но подобное гостеприимство,
ощутимое даже для бездонных кошельков аристократов, затягивало петлю на
шее честолюбивых дворян средней руки, желавших не отставать от знати. Водовозова пишет об этом: "Особенно
обременительны были приемы гостей, съезжавшихся иногда издалека, и не
только с членами своей семьи, но и с своими гувернантками, горничными и
лакеями, -- всех их приходилось угощать ужинами, а некоторых содержать с
лошадьми и челядью в продолжение нескольких дней. И то еще хорошо, что
не все оставались гостить: театральные представления были устроены в
уездном городе где тогда жили мои родители), и на них являлись не только
городские знакомые, но и знакомые семьи, живущие в своих деревенских
поместьях. Гости, приехавшие издалека, за верст тридцать -- сорок, не
могли пуститься ночью в обратный путь при тогдашних ужасающих дорогах.
Да и чего им было торопиться? Спешной, обязательной работы у помещиков
не бывало. Раз приехали из своего захолустья, нужно воспользоваться
случаем! На другой день после спектакля одни из гостей садились за
карты, другие предпринимали увеселительное катанье куда-нибудь за город
или отправлялись на охоту за несколько верст, а вечером молодежь
устраивала танцы, игры, пение". Домашний театр заводили для того, чтобы
он служил развлечению в первую очередь самого хозяина. Кто-то искал
почета, другой хотел поразить гостей щедрым угощением и богатыми
декорациями, многочисленностью труппы, а некоторые владельцы
удовлетворяли нереализованное стремление к литературной славе. Иные
попросту дурили на забаву себе и всем остальным. Фельдмаршал граф
Каменский собственноручно продавал билеты на представления своего
театра, никому не передоверяя этого ответственного дела и ведя строгую
отчетность доходов в кассу, а также имен тех, кому билеты были подарены.
Шутники расплачивались с графом, сидевшим на месте биллетера в парадном
мундире и с Георгиевским крестом, медной мелочью. Но скупой вельможа не
ленился тщательно пересчитывать гроши, на что у него уходило до
получаса времени. При этом только на костюмы для одной постановки "Калиф
Багдадский" им было истрачено около 30 000 рублей. Богач помещик Ганин,
"почти полуидиот", по нелицеприятному определению М. Пыляева, ставил в
своем имении спектакли исключительно по пьесам собственного сочинения и
сам же принимал в них участие. Одной из любимых его ролей и, как
говорили, отлично ему удававшейся, была "роль львицы на четвереньках". Все это бесконечная почти галерея
нелепых образов и собрание забавных историй, из которых при желании
легко можно сложить занятный комедийный сюжет на тему "старого доброго
времени". Но в действительности за этими анекдотами о чудаках помещиках
скрывается чрезвычайно мрачная реальность кулис крепостного театра, куда
не любят заглядывать современные бытописатели российской жизни
XVIII-XIX веков. В театральной зале на стене персональной
ложи эксцентричного графа Каменского висели плети. Во время
представления Каменский записывал земеченные им оплошности, допущенные
исполнителями, и в антракте отправлялся за кулисы, прихватив с собой
одну из плеток. Расправа с виновными происходила здесь же, немедленно, и
крики выпоротых артистов доносились до зрителей, которых весьма
потешало это дополнительное развлечение. При этом фельдмаршал, по
замечанию современника, "не одаренный ни каплей сценического вкуса", был
не слишком требователен к качеству самой актерской игры. У него был
актер Козлов, выражавший все оттенки нежного чувства исключительно с
помощью прижимания носового платка к груди. Так продолжалось годы. И
этого однообразия, как передавали, владелец театра добился от артиста с
помощью жестокой экзекуции, раз и навсегда внушившей несчастному
необходимость повиноваться. Князь Н.Г. Шаховской еще более
изобретателен в мерах физического воздействия на своих артистов. Их
секут розгами, порют плетьми, замыкают шею в рогатку или сажают на стул,
укрепленный в стене железной цепью, и на шею одевают ошейник, принуждая
просиживать так по нескольку дней почти без движения, без пищи и сна. Господину не нравится игра главной
героини, и он без раздумий, прямо в халате и ночном колпаке, выскакивает
из-за кулис и бьет женщину наотмашь по лицу с истеричным торжествующим
криком: "Я говорил, что поймаю тебя на этом! После представления ступай
на конюшню за заслуженной наградой" И актриса, поморщившись на
мгновение, немедленно принимает прежний гордый вид, необходимый по роли,
и продолжает игру... Столь же эмоционален другой барин --
пензенский "театрал" Гладков-Буянов. С его творческой деятельностью имел
возможность познакомиться князь Петр Вяземский, оставивший об этом
незабываемом впечатлении несколько строк в своем дневнике. Гладков, по
его словам, неудачную травлю на охоте вымещает на актерах и бьет их
смертным боем. "В то время, как какой-нибудь герой в лице крепостного
Гришки ревел на кого-нибудь из своих подданных, Гладков, нисколько не
стесняясь, изрыгал громы на этого героя. "Дурак, скотина" -- неслись из
залы ругательства по адресу актеров". А вслед за тем темпераментный
помещик не выдерживал, взбегал на сцену и устраивал там ручную расправу. Другой барин входит в антракте за кулисы
и делает замечание деликатно, отеческим тоном: "Ты, Саша, не совсем
ловко выдержала свою роль: графиня должна держать себя с большим
достоинством". И 15-20 минут антракта Саше доставались дорого, пишет
мемуарист, "кучер порол ее с полным своим достоинством. Затем та же Саша
должна была или играть в водевиле, или отплясывать в балете". Розги, пощечины, пинки, рогатки и
железные ошейники -- таковы обычные меры взыскания и одновременно
средства для воспитания талантов в дворянских помещичьих театрах. Жизнь
крепостных артистов мало чем отличалась там от положения одушевленных
кукол. Ими пользовались, они должны были развлекать и доставлять
удовольствие. Но их можно было при желании безнаказанно сломать,
покалечить или вовсе уничтожить. Однако существует точка зрения, что
именно там, в этих заповедниках унижения человеческой личности,
самодурства и жестокости рождалось русское театральное искусство, и уже
по одному этому можно простить все недостатки "роста". Но -- можно ли?! Очевидец быта крепостников и их
крепостных "кукол" писал в горьком удивлении: "Как ни стараешься, но
никак не можешь представить себе, чтобы люди, да еще девицы, после
розог, да еще вдобавок розог кучерских, забывая и боль и срам, могли
мгновенно превращаться или в важных графинь, или прыгать, хохотать от
всей души, любезничать, летать в балете, а между тем делать были должны и
делали, потому что они опытом дознали, что если они не будут тотчас
из-под розог вертеться, веселиться, хохотать, прыгать, то опять
кучера... Они знают горьким опытом, что за малейший признак
принужденности их будут сечь опять и сечь ужасно. Представить ясно такое
положение невозможно, а однакож все это было... Как шарманщики палками и
хлыстами заставляют плясать собак, так и помещики розгами и кнутьями
заставляли смеяться и плясать людей..." Физическими наказаниями далеко не
исчерпывался круг унижений и мук крепостных артистов. Генералиссимус
А.В. Суворов, завзятый любитель спектаклей, музыки и сам владелец
крепостной труппы, отозвался как-то, что театральные представления
полезны и нужны "для упражнения и невиннаго удовольствия". Большинство
современников генералиссимуса, владевших крепостными актрисами, не
вполне следовали его идеалистическому взгляду, превращая свои домашние
театры в настоящие очаги самого варварского разврата. Де Пассенанс так описавает быт русского
помещика-театрала: "Его повара, его лакеи, конюхи делались в случае
надобности музыкантами... его горничные и служанки -- актрисами. Они в
одно и то же время его наложницы, кормилицы и няньки детей, рожденных
ими от барина..." Крепостные актрисы -- почти всегда
невольные любовницы своего господина. Фактически это еще один гарем,
только публичный, предмет явной гордости владельца. Актрисами
добродушный хозяин "угощает" своих друзей. В доме, где устроен домашний
театр, нередко спектакль заканчивается пиром, а пир -- оргией. Князь
Шаликов свое восторженное описание одного имения, "Буда", в Малороссии,
предваряет таким восклицанием: "Скучающие жизнью и не умеющие
пользоваться благами фортуны, поезжайте в "Буду"!" Хозяин имения,
похоже, действительно не привык скупиться и понимал толк в развлечениях:
музыкальные концерты, театральные представления, фейерверки, цыганские
пляски, танцовщицы в свете бенгальских огней -- все это обилие
развлечений совершенно бескорыстно предлагалось желанным гостям. Кроме
того, в усадьбе был устроен хитроумный лабиринт, уводящий в глубину
сада, где притаился доступный только избранным посетителям "остров
любви", населенный "нимфами" и "наядами", и дорогу к которому указывали
очаровательные "амуры". Все это были актрисы, которые незадолго перед
тем развлекали гостей помещика спектаклем и танцами, а теперь
принужденные по воле господина расточать свои ласки его друзьям. "Амурами" выступали их дети. Среди достопримечательностей Казанской
губернии особой строкой в путеводителе отмечался крепостной театр
гвардии отставного прапорщика Есипова в сельце Юматове. Дело было
поставлено по-барски широко -- при театре богатые декорации, штат
иностранных музыкантов и учителей танцев, а также обширная труппа "из
собственных своих людей актеров и актрис". В путеводителе сообщалось,
что на сцене есиповского театра представляются комедии, оперы, трагедии и
прочие пьесы. К сожалению, о дополнительных развлечениях, ждущих гостей
отставного прапорщика, автор путеводителя скромно умалчивает, зато о
них поведал человек, лично отведавший гостеприимства господина Есипова.
Ф. Вигель, автор интересных записок о русской жизни XVIII-XIX столетий,
вспоминал: "Есипов нас употчевал по-своему. К ужину явилась целая дюжина
нарядных молодых женщин, которые разместились между гостями. Это все
были Фени, Матреши, Ариши, крепостные актрисы хозяйской труппы... Я
очутился промеж двух красавиц. Приглашения побольше пить сопровождались
горячими лобзаниями дев с припевом: "обнимай сосед соседа, поцелуй сосед
соседа, подливай сосед соседу..."" О том, как вообще добродушно принято
относиться к подобным развлечениям русских помещиков в отечественной
литературе, можно судить, например, по комментариям Татьяны Дьшник,
театрального историка, издавшей в 1927 году книжку о крепостных театрах. Она отзывается о Есипове с удивительным благодушием: "Рано
состарившийся холостяк, пустой и добрый человек, он не в силах отказать
себе ни в чем и погрязает в чувственных удовольствиях... потчует своих
гостей после спектакля скверным ужином и оргиями с актрисами..." Таких "добрых" людей, слишком
приверженных при этом чувственным удовольствиям, было немало среди
русских помещиков. Один из них -- московский вельможа князь Николай
Юсупов. Искусствоведы могут долго рассказывать о достижениях князя на
поприще отечественной культуры, о его милых причудах и изысканном вкусе,
о собрании картин и древностей, хранившихся в покоях роскошного дворца в
Архангельском, а также о том, что, управляя императорскими театрами с
1791 по 1799 год, он сделал многое для развития русской сцены... Корреспондент Вольтера, человек
"европейской образованности", в частной жизни Юсупов обладал привычками
азиатского деспота, о чем не любят упоминать искусствоведы. В своем
особняке в Москве он держал театр и группу танцовщиц --
пятнадцать--двадцать самых красивых девушек, отобранных из числа актрис
домашнего театра, уроки которым давал за огромные деньги знаменитый
танцмейстер Иогель. Готовили этих невольниц в княжеском особняке для
целей, далеких от чистого искусства. И.А. Арсеньев писал об этом в своем
"Живом слове о неживых": "Великим постом, когда прекращались
представления на императорских театрах, Юсупов приглашал к себе
закадычных друзей и приятелей на представление своего крепостного
кордебалета. Танцовщицы, когда Юсупов давал известный знак, спускали
моментально свои костюмы и являлись перед зрителями в природном виде,
что приводило в восторг стариков, любителей всего изящнаго". Но если для престарелых господ подобное
греховное развлечение, тем более во время Великого поста, было
сознательным свободным выбором, то для невольных участниц этих княжеских
"вечеринок" дело обстояло совершенно иначе. По приказу помещика юных
девушек вырывали из патриархальных крестьянских семей, живущих крайне
консервативными религиозными представлениями, и насильно учили пороку.
Что вынесли, какие физические и духовные мучения вытерпели эти
несчастные Ариши и Фени, прежде чем научиться со смехом обнажаться перед
взорами похотливых вельмож, в то время как для их матерей недопустимым
грехом было опростоволоситься перед посторонними? Какая боль скрыта за
их улыбками?! И могли бы действительно какие-нибудь иноземные
завоеватели причинить им большее унижение, а вместе с тем и всему
народу, его традициям, чести и достоинству, чем эти "природные" господа? "Прасковья Ивановна Ковалевская взята
была от жившего исстари в доме нашем доброго и честного семейства" --
таким торжественным тоном повествует граф Н.П. Шереметев в
"Завещательном письме сыну" об истории своей страсти к крепостной
актрисе Параше. Историей этой любви не устают умиляться на протяжении
вот уже двух столетий, а между тем в ней мало привлекательного, если
посмотреть на нее без излишней сентиментальности. Граф Николай Шереметев, владелец 140 000
крепостных крестьян и необозримых поместий, богат как венценосный
монарх, но при этом счастливее любого монарха, поскольку совершенно
избавлен от всяких правительственных или хозяйственных забот. Он долго
путешествует по Европе, дополняя полученное превосходное образование
личными впечатлениями. По возвращении в Россию начинается его придворная
карьера -- ордена и высокие должности сыпятся на него как из рога
изобилия без всякого усилия, конечно, с его стороны, но скоро и этот
блеск надоедает баловню судьбы, и он в 37 лет удаляется в свои поместья
вести жизнь частного владельца. По временам его охватывает хандра, тогда
он объявляет друзьям о своем решительном намерении уйти в монастырь,
"носить воду, дрова в келью и выметать сор своими руками". Но, временно
утешенный такими благочестивыми намерениями, вновь предается праздным
удовольствиям -- выезжает на охоту в сопровождении почти тысячи человек
свиты, среди которых дворня, мелкие дворяне-приживалы, и вслед за
графской кавалькадой -- бесконечная вереница подвод с поварами, лакеями,
шатрами и всевозможными запасами. Иногда графские охоты представляли
собой и вовсе невероятное зрелище -- когда к ним присоединялись сотни
званых и незваных гостей, множество карет и всадников, и окрестности на
много верст покрывались лаем, ржанием, звуками рогов, блеском дорогих
нарядов и оружия. Если современник виденную им охоту провинциального
помещика Арапова назвал "походом Донского на Мамая", то шереметевские
охоты вполне можно сравнить с выездом на неприятеля какого-нибудь
восточного владыки, вроде царя Дария. Одна из любимых забав графа -- его
театр, а точнее, три домашних театра, доставшиеся ему еще от отца, графа
Петра Борисовича Шереметева, также не чуждого любви к прекрасному.
Самый любимый из них -- в селе Кусково. Несмотря на славу лучшего
домашнего театра и визиты коронованных гостей, актерам и музыкантам
живется там не слишком сладко. Тяжелее всех приходилось танцовщицам, или
"танцующим бабам", как они обозначались обычно в списках труппы. Их
ценили меньше прочих, тесное помещение, в котором они жили, даже
отапливалось редко и скудно, обычно по особому распоряжению и в случае
болезни кого-нибудь из них. В лучшем положении находились
"комедиантки" -- собственно примы графской труппы. Их кормили
изысканными яствами, одевали в "господское" платье, специальные педагоги
учили их французскому языку, хорошим манерам, давали необходимые знания
из области литературы, искусства, истории. Но при этом все они были
наложницами скучающего графа Николая Петровича, который вел себя с ними
совершенно, как султан в своем гареме. У Шереметева была игривая забава
-- оставлять носовой шелковый платок в комнате очередной избранницы --
это был знак того, что в этот раз именно она удостоится благосклонности
господина. И точно -- к ночи его сиятельство являлся за своим платком,
да так и оставался до утра. На этом фоне не только двусмысленно, но
просто нелепо звучит следующий восторженный отзыв одного историка
искусства о неожиданно вспыхнувшей страсти графа к П. Ковалевой: "Граф
полюбил Парашу, найдя в ней ту "единственную", в поисках которой он так
растрачивал себя"... И вправду Николай Петрович не берег себя на путях
служения своим удовольствиям. Не берег и чести своих невольниц-актрис,
разрушая их судьбы и даже не задумываясь об этом. И если Параша Ковалева
могла считать себя вознагражденной за унижения неожиданным браком с
барином, то остальных девушек, также, как она, насильно взятых "из
добрых и честных семейств", ждали забвение или нищая старость приживалок
в задних комнатах. Когда господину наскучивала их красота, он ссылал их
на задворки своего великолепного дома питаться объедками или выдавал
замуж "с кузовом" за первого попавшегося мужика, который ненавидел
родившегося у него под крышей нахлебника-байстрюка и мрачно бил
несчастную жену, виновную только в том, что она всю молодость прожила
"нечестно", играя в барском "киятре", служа потехам господина, и не
научилась доить корову, прясть и ткать. Помещики менее состоятельные, чем
Шереметев, не позволяли себе такого расточительного обращения с
актрисами, на обучение которых было потрачено в свое время немало
средств. Когда необходимость в их услугах для хозяина по каким-то
причинам пропадала -- "комедианток" продавали, выручая на этом неплохие
деньги. В розницу продавать было выгоднее -- цена за одну крепостную
актрису могла подняться до 5000 рублей. Камергер Ржевский продавал свою
труппу по отдельности, беря по 1000 рублей "за штуку". Но оптом выходило
хотя и дешевле, зато быстрее -- помещица Черткова, например, продала
целый оркестр из 44 музыкантов всего за 37 000 рублей, причем, как
указано в купчей, "с их жены, дети и семействы, а всево навсево с
мелочью 98 человек... Из них 64 мужска и 34 женска полу, в том числе
старики, дети, музыкальные инструменты, пиэсы и прочил принадлежности".
7 
Глава V. Человек в России есть товар...
Знать, мы все безсчастны на свет рождены, Что под власть таким тиранам вовек утверждены! За что нам мучиться и на что век тужить? Лучше нам жить в темных лесах, Нежели быть у сих тиранов на глазах: Свирепо на нас глазами глядят И так, как бы ржа железо, едят... Из народных песен Крепостное право и законодательство Российской империи Торговля людьми в России с начала XVIII и
до середины XIX столетий была совершенно обыкновенным делом. Владельцы
продавали крепостных крестьян точно так же, как любое другое имущество,
давая объявления об этом в газетах или приводя свой живой товар на
рынки. Читатель "Московских ведомостей" встречал на страницах такие
объявления: "Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет,
жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а
жена его хорошая прачка, также и белье шьет хорошо. И цена оному 400
рублей. Видеть их могут на Остоженке, под N 309... Продаются шесть серых
молодых лошадей легких пород, хорошо выезжанных в хомутах, которым
последняя цена 1200 рублей. Видеть их можно на Малой Никитской в приходе
Старого Вознесения..." Николай Тургенев писал о публичной
торговле крепостными, что "торг сей простирался до того, что даже в
Санкт-Петербург привозили людей целыми барками для продажи". Кроме
петербургского крупные невольничьи рынки существовали в Москве, Нижнем
Новгороде, Самаре. Один старый дворовый рассказывал незадолго перед
крестьянской реформой: "Бывало, наша барыня отберет парней да девок
человек тридцать, мы посажаем их на тройки, да и повезем на Урюпинскую
ярмарку продавать. Сделаем там, на ярмарке, палатку, да и продаем их.
Больше все покупали армяне... Каждый год мы возили. Уж сколько вою
бывало на селе, как начнет барыня собираться в Урюпино"... В XVII веке на Руси существовал забытый
во времена крепостного права закон, по которому холоп-иноверец,
принявший православие, получал свободу. В Российской империи русских
православных людей толпами продавали иноверцам, которые увозили своих
рабов в Турцию и на Ближний Восток. Сербский эмигрант Савва Текели,
проезжая Тулу, увидел на центральной площади города около 40 нарядно
одетых девушек, стоявших особняком. На вопрос серба о том, что они тут
делают, проводник ответил односложно: "Продаются". -- "Разве люди
продаются, как скотина?" -- спросил изумленный Текели. На что собеседник
сказал, что в России крепостные люди не имеют ничего, кроме души:
"Помещик может продать мужа от жены, жену от мужа, детей от родителей,
избу, корову, даже и одежду их может продать". Далее в своих записках этот благородный
серб, узнавший за время своего путешествия о крепостной России много
нового для себя, с искренним возмущением пишет, что "бывают такие
негодяи, которые ставят на карту своего крепостного и проигрывают его".
Проигрыш людей в карты действительно был одним из популярных среди
дворян способов отчуждения своей "крещеной собственности". Причем
проигрывали и целые поместья, и людей поодиночке. Декабрист Д. Якушкин,
описывая своих знакомых соседей-помещиков, вспоминал: "Ближайший из них,
Жигалов, имевший всего 60 душ, разъезжал в коляске и имел огромную стаю
гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и
часто, ушедши тайком с полевой работы, приходили ко мне и моим
крестьянам просить милостыню. Однажды к этому Жигалову приехал Лимохин и
проиграл ему в карты свою коляску, четверню лошадей и бывших с ним
кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную девку, и Лимохин
отыгрался". Цена на крепостных людей, как и на любой
другой товар, никогда не была постоянной. При Елизавете Петровне, в
40-е -- 50-е годы XVIII века, средняя цена "души" в Российской империи
равнялась тридцати рублям. Затем, к 80-м годам, цена подросла до ста
рублей и продолжала повышаться. Из объявления в "Московских ведомостях",
опубликованного в 1800 году и приведенного в начале главы, видно, что
стоимость каждого из продаваемых людей в супружеских парах -- 200-250
рублей и практически равна стоимости молодой лошади. В Петербурге и в
Москве цена на людей была выше, чем в остальных губерниях, и на рубеже
веков составляла в среднем 200-300 рублей за "душу". Конечно, бывали исключения, и достаточно
многочисленные. Хорошо обученную актрису, молодую и приятной внешности,
могли оценить и в две тысячи рублей, и дороже. Потемкин купил у графа Разумовского оркестр за 40 000 рублей, а за одну "комедиантку"
было заплачено 5000 рублей. Но псари-охотники за породистого щенка
платили еще дороже -- до 10 000 рублей. Получалось, что при обычной цене
за дворовую "девку" в 200 рублей -- пятьдесят крепостных девушек стоили
столько же, сколько одна редкая охотничья сука. Заядлые любители
звериной травли за прославившуюся на охоте борзую отдавали целые
многонаселенные деревни. Императорское правительство также
принимало участие в этой торговле людьми. В 1806 году владелец труппы
крепостных актеров, А.Е. Столыпин, выставил их на продажу за 42 000
рублей. Обер-камергер А.А. Нарышкин, узнав об этом, а также о желании
самих артистов лучше быть купленными в казну, чем достаться в
собственность другому помещику, обратился к Александру I, рекомендуя
выкупить столыпинскую труппу для императорской сцены. Выгодность такой
покупки камергер объяснял достаточно прагматично: "Умеренность цены за
людей образованных в своем искусстве, польза и самая необходимость
театра... требуют непременной покупки оных". Император был не против, но
считал цену несколько завышенной. Поторговавшись, Столыпин уступил 10
000, и сделка состоялась за 32 000 рублей. Без сомнения, в данном случае крепостные
артисты могли быть счастливы, освободившись от власти помещика и
получив возможность играть на сцене императорского театра. Но
государственная власть, участвуя в купле-продаже людей, тем самым своим
авторитетом упрочивала это социальное зло на будущее. Вообще одной из
основных внутренних особенностей российской действительности эпохи
крепостного права было очевидное противоречие между либеральными
заявлениями, намерениями и даже некоторыми ограничительными мерами
правительства, с одной стороны, и одновременным неуклонным усилением
проявлений рабства в реальной жизни страны -- с другой. К концу своего правления Александр I
выразил неудовольствие, что в его государстве людьми торгуют, подобно
скотине, продавая их как часть имения или вовсе без земли -- "на своз",
поштучно, с разделением семей: детей от родителей, мужей от жен.
Александр Павлович был убежден, что, хотя закон, разрешающий такое
бесчеловечное злоупотребление, и был когда-то издан, но что он уже давно
отменен другими постановлениями, воспрещающими эти продажи. По
представлению императора сенат был вынужден заняться изучением вопроса. Основа крепостных взаимоотношений между
господином и зависимым крестьянством предполагает нерасторжимую связь
земледельца с возделываемым участком. Возможность продажи крестьянина
без земли и с разделением семейства -- бесспорное свидетельство уже не
крепостной зависимости, а рабского состояния. И действительно, к этому
времени -- к двадцатым годам XIX века -- систему социальных отношений в
России все единогласно, от чиновников до вольнодумцев, признавали
рабством. Как же оно возникло? На этот вопрос необходимо было дать
ответ. Результатом работы сенатской комиссии стал неутешительный вывод о
том, что вся юридеческая база так называемого крепостного права крайне
непоследовательна и противоречива. В ней трудно отыскать конкретные
постановления и законодательные акты, утверждающие такие наиболее
болезненные проявления крепостной зависимости, как продажа людей порознь
и без земли, а также позволяющие помещикам вмешиваться в браки и личную
жизнь крепостных. Вместо этого существовало немало декларативных
заявлений о помещичьих привелегиях, таких, как Манифест о вольности
дворянской и Жалованная грамота российскому дворянству, из которых
только косвенным образом следуют и права, однако нигде определенно и
подробно не прописанные. И наоборот, выяснилось существование
некоторых законодательных постановлений, защищающих так или иначе права
крепостных крестьян перед наиболее крайними проявлениями произвола
владельцев, хотя и относящихся к давнему времени -- середине XVII
столетия, но так никогда и никем не отмененных, а значит, остающихся в
силе. При желании в российском законодательстве можно было отыскать
документы, представляющие правовую основу крепостничества с абсолютно
противоположных позиций. Но на практике все неясности и умолчания
трактовались в пользу дворянства при явной или негласной поддержке
правительства. По-видимому, начало розничной торговле
крепостными людьми без земли лежит в распространенном еще в XVII веке
обычае среди помещиков при продаже имений уступать друг другу права на
беглых крестьян. Кроме того, во второй половине XVII столетия уже
встречаются случаи раздела семейств. Как правило, в это время, в отличие
от вопиющих сцен XVIII и XIX веков, они носят сдержанный характер,
когда взрослые сыновья со своими семьями достаются при разделе имения
одному владельцу, а их родители с неженатыми сыновьями и младшими
дочерьми -- другому. Но здесь уже заметно формирование отношения дворян к
своим крестьянам, как к имуществу. Значительным препятствием для
превращения крепостных в совершенно бесправных рабов было сохранявшееся
долгое время значение дворянского поместья как условного служебного
землевладения. Правительство смотрело на поместные земли как на
государственное имущество, и на крестьян, живущих на них, как на
государственных тяглецов, предоставленных лишь во временное владение
служилого человека, для того чтобы он имел возможность исправно нести
военную службу. И в этом было коренное отличие поместий от вотчин,
являвшихся полной собственностью дворян. Но с течением времени границы,
разделявшие правовой статус поместного и вотчинного землевладения,
просматривались все менее отчетливо. Этому способствовала, во-первых,
заинтересованность дворян-помещиков избавиться от статуса условных
держателей земли и, во-вторых, встречное стремление правительства
удовлетворить интересы дворянского большинства, найти в нем вооруженную
опору для проведения политики "реформ". Таким образом, окончательное
формирование утилитарного взгляда на крепостных, как на "крещеную
собственность", которую можно дарить, отдавать в залог, продавать на
рынке оптом и в розницу, произошло после уравнения поместий с вотчинами,
провозглашенного при Петре I и еще раз подтвержденного указом
императрицы Анны в 1731 году. Важным закрепляющим этапом на этом пути
был также закон от 1747 года, разрешавший помещикам продавать своих
крестьян и дворовых людей для постановки в рекруты вместо купцов и
других военнообязанных граждан. Хотя данное распоряжение оговаривает
случаи, связанные исключительно с набором в рекруты, оно фактически
узаконивало розничную продажу и разделение семей. По крайней мере,
именно так его и поняли душевладельцы и поспешили воспользоваться
полученными полномочиями. Правительство, как ни было
заинтересовано в дворянской поддержке, все же не могло не отдавать себе
отчета в том, что сложившееся положение дел в государстве может привести
к непоправимым социальным последствиям. Но, не меняя ничего решительно,
ограничивались полумерами, которые оставались неизвестными крепостным и
намеренно игнорировались дворянством, тем более что сама власть не
настаивала на исполнении собственных постановлений. В 1771 году
Екатерина II подписывает указ, запрещающий при продаже с аукциона
конфискованных имений продажу при этом крестьян без земли с молотка. Но
этот закон, чрезвычайно ограниченного действия, практически не
исполнялся помещиками, а в 1792 году и вовсе был отменен. В 1801 году
Александр I распорядился не принимать к публикации в газетах объявления о
продаже людей. Тотчас же стали печатать объявления о сдаче крепостных
"внаем", за которыми, конечно, стояло все то же предложение продажи. В
1808 году запретили торговать людьми на рынках и ярмарках, но свобода
торговли у себя на дому не возбранялась, да и в публичных местах
продолжалась практически беспрепятственно под прикрытием все того же
"найма". Только в 1841 году выходит постановление правительства Николая
I, запрещающее продажу крепостных отдельно от семейств и ограничивающее
право безземельных дворян приобретать крепостных. Герцен писал об этом:
"Николай хотел ограничить продажу людей и, желая сделать добро, сделал
вред; такова обычная судьба полумер... Запрещая дворянам, не имеющим
земли, покупать крестьян, запрещая до известной степени раздробление
семейств, он признал тем самым право продажи в других случаях и дал
законную основу терпимому беспорядку". Но еще в 1833 году выходило запрещение
разделять крепостные семьи при продаже или дарении другим владельцам.
Однако оно не соблюдалось точно так же, как и предыдущие и последующие.
Дворовых людей и крестьян продавали, дарили и завещали с землей и без
земли, вместе с семьей и раздельно вплоть до 19 февраля 1861 года,
потому что к злоупотреблениям, которые давно стали нормой, так привыкли,
что воспринимали их как должное. Путь для злоупотреблений открывало само
правительство, во всех случаях вставая на защиту помещиков и не скрывая
того, что любые постановления, так или иначе хотя бы формально
ограничивающие власть землевладельцев, являются вынужденными мерами. Указ от 1803 года "о вольных
хлебопашцах" разрешал помещикам отпускать своих крепостных на свободу с
непременным наделением отпускаемых крестьян земельными участками, за
которые те должны были нести определенные соглашением с господином
повинности. Не говоря о том, что это постановление носило не
обязательный для дворян характер, и благодаря ему вольную получили всего
около 100 ООО человек -- в действительности оно не столько облегчало
положение крепостных, сколько расширяло права душевладельцев. Со второй
половины XVII века правительство, давая помещикам практически
неограниченные возможности для порабощения крестьян, оставило без
внимания немаловажное владельческое право -- отпускать рабов на свободу.
Еще в пору заседаний Уложенной комиссии среди депутатов разгорелись
горячие споры о том, имеет ли право помещик по своему усмотрению давать
крепостным вольную. Конечно, речь шла не об освобождении отдельных лиц,
такие случаи были обычны, а о праве отпускать на свободу население целой
усадьбы с наделением крестьян землей. Не запрещая этого формально,
правительство давало почувствовать землевладельцам нежелательность
подобных действий, опасаясь вредного влияния таких прецедентов на
закрепощенное население и усиления в нем свободолюбивых настроений. Тогда, во 2-й половине XVIII века, этот
вопрос так и не был решен окончательно. А между тем для дворянства он
имел принципиальное значение своего рода последней точки в неоспоримости
его прав собственности над крепостными людьми -- даровать свободу
кому-либо может только тот, кто обладает над ним абсолютным правом
собственности.[15]
15 На заседаниях Уложенной комиссии депутат
от эстляндского дворянства Ренненкампф настаивал на праве дворян
отпускать крепостных на волю не поодиночке, но целыми деревнями и даже,
если на то будет желание помещика -- всех принадлежащих ему крестьян.
Причем Ренненкампф откровенно заявлял, что исходит не из интересов
крестьян, которые его совершенно не заботят, а из убежденности, что
только так будет достигнута наибольшая полнота владельческих прав и
полномочий.
Русские помещики, получив и поместья и крестьян из рук государства,
несмотря на бесчисленные декларации со стороны правительства, без этого
важнейшего окончательного права не могли считать свою власть над людьми
полной. После выхода указа о "вольных хлебопашцах" все сомнения были
рассеяны, и члены "благородного" сословия теперь могли чувствовать себя
настоящими распорядителями судеб своих крепостных подданных. Объективное изучение эпохи приводит к
несомненному выводу, что именно позиция государственной власти послужила
причиной для формирования тех наиболее уродливых форм крепостничества,
которые получили развитие в Российской империи. Современник писал:
"Дворяне покупали рабов от других дворян, вместе с их землей, домами,
скотом, собаками и проч. При покупке и люди, и скот, и последняя собака
ставились в один список, и деньги давались за все под одно, -- все было
одинаковым продажным товаром. Естественно, поэтому, что купивший мог
составить себе понятие, что он имеет полное право располагать рабом по
своему желанию, как и всякою другою своею покупкой... Стало быть: что
бык, что мужик -- для помещика-господина были одинаковы, т. е. не более
как рабочая сила. При таком взгляде на раба лучших отношений, чем к
скотине, и ждать нельзя". Можно сколько угодно возмущаться
"недостатком человеколюбия" у поместного дворянства, негодовать на его
жестокость по отношению к зависимым людям, часто доходившую до крайней
степени, о чем еще будет речь впереди, но нельзя забывать, что
предпосылки для самой возможности всего этого социального безобразия
были созданы почти исключительно политикой императорского правительства.
В возможности возникновения взгляда на крестьянина, как на одушевленную
вещь, как на "крещеную собственность", повинна безусловно верховная
власть, передавшая помещикам посредством законов свое собственное
утилитарное отношение к народу. В этом смысле интересен текст некоторых
статей проекта Уложения, разрабатывавшегося при Петре, в 1720-1725
годах. Статья 38-я утверждает право собственности помещика на детей,
унесенных беглыми крестьянками "в утробе"! Статья 36-я гласит, что если
крестьянки выданы замуж по выводным крепостям за крестьян других
вотчинников, "а с собою принесли детей во чреве", то таких детей, по
рождении, в случае требования о них со стороны бывшего владельца
матерей, "отдавать по крепостям" назад. Так православное правительство
еще только зачатым или едва рожденным на свет детям уже ставит рабское
клеймо, уже определяет их вещью господина и не затрудняется отбирать от
матерей, как щенят. Изданный при императоре Николае I в 1833
году "Свод законов о состоянии людей в государстве" уже не в проекте, а
формально-юридически определяет место крепостных в социальной системе
страны. Статья 571-я "Свода" декларирует беспрекословное повиновение
крепостных крестьян своим господам "во всем, что не противно общим
государственным узаконениям". Статья 575-я продолжает собой регулярно
возобновляемую в каждое правление традицию категорических запретов
"недозволенных жалоб" крестьян на своих владельцев, и особенно -- подачу
их лично императору. Статья 579-я узаконивает и без того
распространенное вмешательство дворян в личную жизнь своих крестьян и
дворовых и объявляет, что крепостные могут вступать в брак исключительно
с разрешения помещика. Статья 587-я примечательна для
характеристики отношения христианского императора к жизни своих
единоверных крепостных подданных: она предписывает в случае
неумышленного убийства крепостного посторонним дворянином взыскать
только в пользу его владельца цену за убитого, как за рекрута. Иными
словами, гибель христианина, наконец просто человека, пусть и
крепостного, закон рассматривает не как преступление, а как нанесение
имущественного ущерба владельцу, требующее компенсации. Здесь
проглядывает все тот же принцип, на защиту которого встает всей мощью
государственная власть: "убыли ни в чем барском быть не должно"! Прочие статьи сочинены в этом же духе --
объявляют все движимое и недвижимое крестьянское имущество
собственностью помещика, а также декларируют право господина применять
телесные наказания исключительно по своему усмотрению. Замечательно, что такое положение
собственного народа, находящегося в жестоком рабстве и безрезультатно
взывающего к монаршей милости, не мешало императору Николаю I деятельно
заботиться о положении чернокожих невольников в Северной Америке. В 1842
году выходит указ, грозивший наказанием тем из российских подданных,
которые осмелятся участвовать в торговле неграми... Кроме того,
император великодушно даровал свободу всякому чернокожему рабу, которому
доведется ступить на российскую землю. Такое решительное выступление в защиту
невольников на другом континенте, в то время как в собственной стране
процветает рабство, казалось двусмысленным и труднообъяснимым. Этот
странный указ, естественно, вызвал сильное недоумение в российском
обществе. Поскольку торговать неграми в России мало кому доводилось,
стали подумывать -- не намек ли это на скорое освобождение крепостных?!
Общую растерянность того времени замечательно передал М.А. Фонвизин:[16]
Фонвизин М.А. 1787-1854-- декабрист, автор публицистических работ на социально-политические темы.
"Недавно правительство, увлекшись тем же духом подражания и
европеизмом, решилось приступить к союзу с Англией и Францией для
прекращения ненавистного торга неграми. Это, конечно, случилось в минуту
забвения, что в России производится в большом размере столько же
ненавистная и еще более преступная торговля нашими соотечественниками,
христианами, которых под названием ревизских душ, покупают и продают
явно, и присутственные места совершают акты продажи". А. Герцен был более резок в своей оценке
этого николаевского указа: "Отчего же надобно непременно быть черным,
чтоб быть человеком в глазах белого царя? Или отчего он не произведет
всех крепостных в негры?" Эти, как представляется, справедливые
вопросы остались без ответа со стороны императора. Но сравнение
положения крепостных крестьян и североамериканских невольников стало
популярным в России, особенно после выхода книги Г. Бичер-Стоу "Хижина
дяди Тома" в 1853 году. Некоторые фрагменты этой книги буквально
совпадали с реальностью крепостной России, с той только разницей, что
вместо русских крестьян там продавали, разлучали с близкими по произволу
господина и держали в колодках африканских рабов. Книга была пронизана
обличением несправедливости и осуждением рабства, и стала чрезвычайно
популярной у... россиских помещиков. Ее читали друг другу вслух в
гостиных, возмущаясь жестокостью плантаторов, сочувствуя участи негров и
совершенно забыв, что русский автор уже написал нечто подобное о
рабской жизни своих соотечественников. Таковы причуды человеческой
психологии. Любопытно сравнить два небольших отрывка из книги А. Радищева и романа Г. Бичер-Стоу: "На следующее утро, часам к одиннадцати,
у здания суда собралась пестрая толпа... Выставленные на продажу сидели
в стороне и негромко переговаривались между собой. Женщина...
Изнурительный труд и болезни, по-видимому, состарили ее прежде времени.
Рядом с этой старухой стоял ее сын -- смышленый на вид мальчик
четырнадцати лет. Он единственный остался от большой когда-то семьи,
членов которой одного за другим продали... Мать цеплялась за сына
дрожащими руками и с трепетом взирала на тех, кто подходил осматривать
его..." "Наступил день и час продажи. Покупщики
съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на продажу
осужденные. Старик лет в 75... старуха 80 лет, жена его... Женщина лет в
40, вдова. Девушка 18 лет, дочь ее и внучка стариков... Она держит
младенца, плачевный плод насилия, но живой слепок прелюбодейного его
отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к
нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного.
Детина лет в 25, венчанный ее муж. Зверство и мщение в его глазах.
Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож,
он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение.
Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба
непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение... Едва ужасоносный
молот[17]
17 Имеется ввиду молоток аукционера.
испустил тупой свой звук, и четверо несчастных узнали свою участь, -- слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания..." Когда из текста убраны точные указания
на цвет кожи продаваемых и место действия, не так просто определить --
происходит это на русском севере или на американском юге. Барон Н.Е. Врангель вспоминал о своих
детских впечатлениях от чтения "Хижины дяди Тома": "Большие удивлялись,
как люди с нежным сердцем могут жить в этой бессердечной Америке. У нас тоже продают и покупают людей, -- фистулой сказала Зайка. Негров привезли издалека, их насильно
оторвали от их любимой родины, а наши мужички русские, как и мы, --
сказала старшая сестра. Моя дорогая, ты совершенно напрасно пытаешься объяснить этим бесстыдным детям то, что ясно, как божий день, -- сказала тетя. Не отлынивайте, -- сказал я. -- А почему конюха высекли? Он заслужил. Но его наказали не из жестокости, как бедного Тома... Крестьяне не рабы, а только прикрепленные к земле. Большие, как и мы, знали, что это не так, но только не хотели этого знать". В то время как шел этот спор в баронском
семействе, за несколько лет до отмены крепостного права дворовый
человек Ф. Бобков записал в своем тайном дневнике, благополучно изданном
впоследствии: "В "Полицейском листке" печатается, что продаются муж
повар 40 лет, жена прачка и дочь, 16 лет, красивая, умеющая гладить и
ходить за барыней. Я догадался, что это девушка Аполлинария, знакомых
господ. Барин раньше ни за что не соглашался ее продать, а теперь,
вероятно, уже надоела, или он нашел новую и продает..." Крепостных не только продавали или
проигрывали в карты -- их часто дарили или "отпускали в услужение" к
тем, кто не имел права владеть людьми на законном основании. Современник
так описывал эти обычаи: "Крестьянских мальчиков и девочек дарилось
особенно барынями порядочное количество. Набожные барыни любили
награждать своих духовных отцов или поступались знакомым купцам или
купчихам. По недостатку в деньгах или по скупости дарили людей судейским
и приказным за их одолжение по тяжебным и служебным делам... Полиция
нигде в это не вступалась и не требовала на них ни видов, ни паспортов". Крестьяне и дворовые служили в домах
священников, купцов, даже зажиточных мещан -- у всех, кто мог заплатить
помещику необходимую цену за крепостную "душу". Предусмотрительные
хозяева, хотя полиция в большинстве случаев бездействовала, предпочитали
оформлять такую незаконную покупку на имя знакомых дворян.
Злоупотребления и здесь достигли, наконец, таких размеров, что
правительство было вынуждено вмешаться и прибегнуть даже к карательным
мерам. За удержание у себя в услужении крепостных людей без законных на
это прав нарушителям -- как покупателю, так и продавцу -- назначался
штраф, а крепостному выписывали вольную. Но таких случаев наказания
виновных было всего несколько за всю историю крепостного права. В стране, в которой публичная торговля
людьми и всевозможные притеснения и унижения человеческого достоинства
были утверждены законом, естественно было ожидать увеличения числа
незаконных злоупотреблений, задевавших и формально свободных людей.
Помещики, особенно из числа богатых и влиятельных, очень часто
пользовались своей силой и властью для того, чтобы население казенных
деревень и сел держать на положении собственных крепостных. Правды
жителям найти было нелегко, потому что вся местная власть была на
стороне притеснителей. Начальник 4-го округа жандармов граф Петр
Буксгевден доносил в секретном сообщении императору Николаю, что только в
западных губерниях у помещиков находится более четырехсот тысяч вольных людей, которые, зная о своих правах, вынуждены были переносить на себе все тяготы крепостного состояния. От насилия и рабской участи не были
застрахованы и сами дворяне. Примеров, когда в усадьбах у знатных господ
служили дворовые из "благородных", не были исключительной редкостью. У
генерала Измайлова жила целая семья польских шляхтичей, отец, дочь и
несколько сыновей, которую он перекупил у другого помещика. Отец всю
жизнь пытался отстоять свои права, но так и умер крепостным. Девушку
генерал сделал своей наложницей, а ее братьев, которые, по примеру
родителя, пытались "отыскивать вольность", держал на цепи и бил плетью,
пока не вырвал обещание покориться и смириться со своей участью. Этот
случай, как и некоторые другие, стали известны из материалов редких
уголовных дел. Но сколько примеров никогда не станут известными, потому
что полиция, прикормленная помещиком, как правило закрывала глаза на
любые преступления. Наконец, еще одним ярким доказательством
извращенности общественных отношений того времени служат примеры, когда
сами крепостные крестьяне оказывались владельцами собственных
крепостных. Зажиточные крестьяне, договорившись со своим помещиком и
приплатив ему за посреднические услуги, покупали на его имя какую-нибудь
деревню. И дальше распоряжались ее жителями по своему усмотрению:
собирали с них оброк, сдавали без очереди в рекруты вместо своих сыновей
и т. д. Уязвимость прав на такую собственность была в том, что
формальный хозяин-помещик, или чаще его наследники или доверенные лица
могли взять деревню на себя, что и случалось довольно часто. Д.Н. Свербеев, управляя однажды имениями
своей родственницы, столкнулся с подобным случаем, который и живописал в
своих воспоминаниях. Заметив большие недоимки по имению, он вызвал
бурмистра кузины и велел ему сдавать в рекруты вне очереди всех
недоимщиков: "Бурмистр отвечал мне и довольно грубо: -- У нас этого не
водится, мы никогда из всего нашего села рекрут не ставим. -- Как же
так? А этот очередной список, подписал его ты? -- Я. Да это очередные
деревни Казанки. -- Какой деревни Казанки? У меня в описи имений вашей
помещицы нет ни одной под этим названием. -- Да деревне Казанке и не
следует быть в вашей описи, она не княжны, а наша. -- Что за чертовщина!
Как же она ваша, а не княжны? -- Извольте видеть-с. Мы самую эту
деревню душ 50 или 60 по соседству с нами купили за себя еще при покойном
князе, отце нашей барышни, и на его имя с тем, чтобы за село свое
ставить из нее людей в солдаты. Так это с тех пор и ведется законно. Вы
тоже, сударь, эфтим нас не обидьте, потому что это самой княжне все
известно. Как ни твердо, казалось мне, знал я всю
азбуку нашего крепостного права, но такой ответ изумил и меня
свершенно... Подумав и помолчав несколько минут, я продолжал свое
доследование, обратившись к бурмистру, стоявшему передо мной как бы ни в
чем не бывало, с полным сознанием своей правоты: -- Ну, что же, эти
казанские крестьяне на барщине или на оброке? -- На оброке-с. -- Кому же
они платят? -- Вестимо нам. Ведь купили их мы. -- По-скольку? --
По-скольку мы платим княжне. -- А недоимки у вас на них есть? -- Нету.
Недоимщиков сдаем мы первых в рекруты..." Учитывая вышеприведенные примеры,
приходится сделать вывод, что, несмотря на ряд общих признаков, которые
сближают крепостничество в своих самых жестких проявлениях с
рабовладельческими системами древнего и нового времени, от античности до
Северной Америки, все же русское крепостное право представляет собой
совершенно особое явление в истории социального неравенства и угнетения.
Крепостных использовали как рабов, относились к ним, как к рабам,
сочиняли законы, утверждавшие их рабское состояние, но, и отняв у них
право присяги самодержцам, продолжали именовать их в официальных
документах "подданными", "верным нашим народом", обращались к ним, как к
гражданам. Иначе и быть не могло, ведь в крепостном состоянии
находилось в разное время от половины до 3/4 населения России. Крепостные, в отличие от привозных невольников, были
не просто представителями коренного народа страны, но единокровными
соплеменниками своим господам. Их предки создали это государство и
возвели на трон династию, преемниками которой именовали себя правившие
императоры. Крепостные кормили государство, работая с утра до ночи в
полях, и защищали его на полях сражений -- ведь солдатская служба почти
целиком ложилась на их плечи. Ничего подобного ни в одной
рабовладельческой стране никогда не было и быть не могло. Более того, в России вчерашний
раб-крепостной, проданный своим господином в рекруты, мог дослужиться до
офицерского чина, получить дворянство и стать в свою очередь помещиком
-- хозяином собственных крепостных, совершенно сравняться в своих правах
и общественном положении с бывшим барином. Например, в полицейском отчете от
1840 г. содержится любопытная информация об одном из таких случаев,
приведших даже к крестьянскому бунту. Поводом к неповиновению крестьян в
имении помещиков Чуйковых послужило, как сказано в документе, "обидное
чувство унижения, поселившееся в крестьянах от того, что Чулковы, будучи
крепостными людьми помещика Татищева, прежнего владельца сего имения, и
приобретя впоследствии дворянство в военной службе, сделались
владельцами людей равных им по происхождению; в особенности же
обвиняется при сем случае отец Чулковых, который, сделавшись под именем
детей своих неограниченным распорядителем имения, не всегда был чужд
пристрастных и своевольных действий".) Классическое рабство не знает таких
примеров -- даже вольноотпущенников, сделавших впоследствии громадные
состояния, с прежними их владельцами разделяла всегда непреодолимая
социальная пропасть. Тем более что-либо подобное нельзя отыскать в
истории американского рабства, основанного на этнической разнице между
хозяевами и невольниками. Это смешение трудносовместимых в одной
социальной системе признаков приводило к неопределенности
взаимоотношений русских крепостных и помещиков. Господин был уверен, что
крепостной крестьянин -- его раб, а крепостной знал, что он --
подданный государства, только временно обязанный работой на помещика. И
государственная власть противоречивыми действиями и указами в каждом из
них укрепляла сознание именно своей правоты. В то же время правительство, сознательно
устраняясь от вмешательства во внутреннюю жизнь дворянского поместья,
гарантировало землевладельцу свою защиту при любых обстоятельствах. Эта
позиция воспитывала в помещиках ощущение полной безнаказанности, которое
приводило к отвратительным последствиям, что наиболее остро проявилось в
случаях физического наказания крепостных.
8 
Глава VI. Превыше сносности человеческой
Не было березки, С которой бы не ломали розги, На нашу-то грешную спину Ломали лозу и осину. Без вины били, карали, Носили на ногах колодки, И в железы еще ковали, -- Так-то сильно горевали!.. Терпели от боя боли, На руках были мозоли, Не было из нас человека, Чтоб без бою прожил века... Из народных песен Телесные наказания, пытки и убийства крепостных людей Все существование крепостного
крестьянина в России было похоже на бессрочную каторгу. Но наряду с этим
бытовала целая система наказаний для помещичьих людей, или "взысканий",
как они именовались на казенном языке. Помещик у себя в имении являлся
одновременно и хозяином своих крепостных и своего рода правительственным
представителем, ответственным за своевременное выполнение крестьянами
государственных повинностей. Поэтому императорское правительство
позаботилось о том, чтобы наделить помещика необходимыми полномочиями
для физического воздействия на "подданных". Среди распоряжений
правительства в этом роде примечателен указ от 1736 года, отдававший на
усмотрение землевладельца определять меру и степень наказания крестьянам
за неповиновение и побег. В 1760 году императрица Елизавета
даровала право дворянам ссылать неугодных им людей "за предерзостные
поступки" в Сибирь на поселение. За каждого сосланного помещику
выдавалась рекрутская квитанция. Помещик не имел права только разлучать
ссылаемого с женой, хотя это правило часто нарушалось при
попустительстве властей. Детей ссылаемого владелец мог оставить у себя
уже на законном основании, но в том случае, если он находил по каким-то
причинам удобным для себя отправить в Сибирь и детей вместе с
родителями, он получал из казны денежное вознаграждение за каждого
высланного ребенка. Помещикам предписывалось снабжать
ссылаемых денежными средствами, из которых им должны были выдаваться
"кормовые", а остальное тратиться на долгую и трудную дорогу. Но дворяне
постоянно пренебрегали этими требованиями, затягивая выплаты
необходимых сумм, а то немногое, что все же поступало от них, немедленно
разворовывалось чиновниками и надзирателями. Ссыльных обычно отправляли речным путем
до Самары, а уже оттуда пешим строем в Сибирь. До места назначения
доходила едва только 1/4 часть от общего числа отправлявшихся в дорогу из Центральной России.
Многие умирали еще во время речного пути. Причиной тому было чрезвычайно
жестокое обращение надсмотрщиков: для предотвращения побегов людей
запирали в тесные трюмы, где в антисанитарных условиях быстро
распространялись болезни. Для женщин с грудными детьми полагалось
предоставлять подводы, но и это условие редко исполнялось на практике.
Новгородский губернатор Сивере, один из немногих, кто имел смелость
указывать на вопиющую несправедливость и очевидный вред этого закона,
писал императрице, что, вследствие данной дворянству очередной
привилегии произвольно отправлять в ссылку людей, постоянно совершаются
самые возмутительные дела. Некоторые помещики всех, кто не годится в
рекруты вследствие малого роста, здоровья или других недостатков,
отправляли в ссылку в зачет ближайшего рекрутского набора, а зачетные
квитанции продавали. Помещики специально изыскивали
возможность купить на аукционе или другим способом престарелых или
обладающих физическими недостатками крестьян по дешевым ценам с тем,
чтобы немедленно затем сослать их "за предерзостные поступки" и получить
вожделенные рекрутские квитанции. В результате среди ссыльных было
много как людей старых, так и, наоборот, юных, почти детей, которых
трудно было устроить на новом месте. Тревогу внушали и
распространившиеся болезни. Сибирский губернатор просил сенат хотя бы на
один год приостановить отправление новых партий. Екатерина
распорядилась прекратить высылку в Сибирь, а расселять сосланных по
городам центральной России. Но через год вновь велено было направлять их
в Сибирь. Правительство до самой отмены крепостного права издавало
противоречивые распоряжения по этому поводу. При Николае I вовсе сняли
даже существовашее до той поры ограничение возраста ссылаемых и
позволили отправлять в Сибирь без различия пола, возраста и состояния
здоровья. Правда, в 1853 году вышел указ, воспрещавший ссылку беременных
крестьянок, но разрешившихся от бремени отправляли по этапу
по-прежнему. Право ссылать в Сибирь и получать за
сосланных деньги, избавляясь в то же время от старых и больных слуг, и в
самом деле казалось многим помещикам выгодным средством улучшить свое
благосостояние. Судьба сосланных мало тревожила их бывших владельцев. В
то же время тяжелое путешествие пешком, в дождь и холод, занимавшее от
полутора до двух лет, почти впроголодь -- уносило жизни и без того
ослабленных людей. Трупы умерших, среди которых было большинство женщин,
стариков и детей, зарывали при дороге и двигались дальше. Но жизнь тех,
кто добрался до места ссылки, также была нелегкой. Академик П. Паллас,
побывавший в таких поселениях под Томском, писал: "Я видел больных,
увечных, безумных... и значительное число старых и поседелых людей...
Еще менее можно оправдать то, что бесчеловечные и корыстолюбивые
помещики отрывают многих пожилых отцов от их многочисленных семей, даже
от их жен, и одиноких отсылают в эту злополучную страну... Многие из них
со слезами говорили мне, как тоскуют они об оставленных детях".
Сибирский губернатор также обеспокоенно докладывал в сенат, что
присылаемые помещичьи люди оказываются старыми и дряхлыми, многие с
обмороженными конечностями и прочими увечьями, полученными в пути. Добравшись до места ссылки, многие не
имели даже одежды, поскольку старая за время пути превращалась в
лохмотья, ссыльнопоселенцы должны были наладить собственное хозяйство.
Для этого они получали от казны ничтожное вспомоществование зерном и
хозяйственным инвентарем. Через три года они должны были не только
начать уже платить подати в полном размере, а также нести дорожную,
строительную и прочие государственные повинности, но и вернуть
государству стоимость полученной первоначально "помощи". Причем подати
до следующей ревизии вносились ссыльными за всю партию, вне завимимости
от того, сколько человек из них умерло по дороге, таким образом,
оставшиеся в живых должны были платить государству за мертвых. Императрица Екатерина II в 1765 году
расширяет карательные возможности дворянства, даровав ему право ссылать
крепостных в Сибирь уже не просто на поселение, а прямо на каторжные
работы. Так же, как и ранее, для этого не требовалось никаких других
оснований, кроме желания помещика, ни суд, ни полиция не имели права
задавать вопросов о причине господской опалы, не говоря о каком-либо
расследовании дела. Но если прежняя мера хотя бы формально оправдывалась
правительством необходимостью любыми средствами заселения сибирских
земель, то бесконтрольное пополнение числа каторжан вряд ли могло
способствовать развитию и процветанию этого отдаленного края. В то время как невольные поселенцы
должны были самостоятельно устраиваться на новом месте и платить подати,
каторжные принимались целиком на казенный счет наряду с обычными
преступниками, осужденными уголовным судом. Но и после этого императрица
не оставляла попечение о дальнейшем расширении дворянских привилегий, и
вскоре помещики получили право не только ссылать на каторгу, но и
возвращать своих крепостных обратно, когда захотят. И чиновникам было
приказано отдавать заключенных прежним господам по первому требованию. В
результате появления всех этих правительственных указов помещики
получили в свое распоряжение новые возможности для распоряжения судьбами
подневольных людей, причем за государственный счет, извлекая из
произвольно налагаемых наказаний немалую финансовую выгоду. Ежегодно в Сибирь по воле помещиков
отправлялись тысячи людей. Но для тех, кто оставался в имении, были
предусмотрены свои способы "взыскания". Порка получила столь широкое
распространение, что вряд ли можно было отыскать в России хотя бы одного
не высеченного крепостного крестьянина. В первой половине XVIII
столетия в ходу для наказания были плети, кучерские кнуты и батоги.
Впоследствии секли обыкновенно розгами, поскольку, как высказался один
помещик, "батожье есть такое наказание, от которого многие могут
сделаться чахоточными и увечными", а розгами можно наказывать без столь
сильного вреда здоровью, "как отец своих детей". Правда, "отеческое" наказание розгами,
как правило, исчислялось тысячами ударов и доходило до 15 000 -- 20 000! Понятно, что бесследно для здоровья такая чудовищная расправа пройти не
могла. И на этот случай были предусмотрены свои меры. В сохранившемся
документе из усадебного архива помещик распоряжается: "Впредь ежели кто
из людей наших высечется... а розгами дано будет 17 000, таковым более
одной недели лежать не давать, а которым дано будет розгами по 10 000 --
таковым более полунедели лежать не давать же..." Тяжесть наказания крепостных зависела
исключительно от воли помещика. Большинство предпочитало в этом случае
действовать в зависимости от своего настроения, но некоторые господа
составляли подробные карательные инструкции, содержание которых
доводилось до сведения всего населения дворянской вотчины. В этих
документах предусматривались всевозможные проступки и здесь же
определялась степень наказания. В инструкции, составленной лично
фельдмаршалом Румянцевым для своих обширных имений, в перечне
"взысканий" находятся и денежный штраф от нескольких копеек до десятков
рублей, и возмещение испорченного или украденного господского имущества в
двойном размере, конфискация крестьянского имущества, а также
заключение в темницу на цепь, отдача в рекруты и, конечно, батоги и
плети. Причем в данном случае не указано точное число ударов, но
встречаются примечания вроде: "высечь жестоко". За оскорбление чужого
помещика предписывалось наказывать обидчика при оскорбленном до тех пор,
пока дворянин не сочтет себя удовлетворенным. То, что шокировало иностранцев, казалось
обычным, естественным и необходимым русским помещикам. Шарль Массон
писал: "Я уже отмечал, как возмутительно в России обращение с людьми.
Присутствовать хотя бы при наказаниях, которым часто подвергаются рабы, и
выдержать это без ужаса и негодования можно только в том случае, если
чувствительность уже притупилась и сердце окаменело от жестоких
зрелищ... Я сам бывал свидетелем, как хозяин во время обеда за легкий
проступок холодно приказывал, как нечто обычное, отсчитать лакею сто
палочных ударов. Провинившегося сейчас же уводят на двор или просто в
переднюю, и наказание приводится в исполнение". Эта холодная отстраненность при
назначении наказаний -- характерная черта господского отношения к своим
крепостным, начавшая распространяться в 19-м веке, да и то среди
ограниченного крута помещиков, демонстративно порывавших с диковатой
грубостью, которой не брезговали ли при расправах их деды и прадеды. Д.
Благово записал рассказ со слов старой дворовой женщины про привычки
своей бабушки, Евпраксии Васильевны: "Генеральша была очень строга и
строптива; бывало, как изволят на кого из нас прогневаться, тотчас и
изволят снять с ножки башмачок и живо отшлепают. Как накажут, так и
поклонишься в ножки и скажешь: "Простите, государыня, виновата, не
гневайтесь". А она-то: "Ну пошла, дура, вперед не делай". А коли кто не
повинится, она и еще побьет..." Так запросто расправлялась со своими
слугами дворянка XVIII века. Эта Евпраксия Васильевна была родной
дочерью российского историка В.Н. Татищева, и сама прекрасно образована,
начитана, свободно владела иностранными языками и слыла барыней "не
злой"... "Не злым" господам более позднего
времени подобное рукоприкладство казалось непозволительной грубостью,
варварством. Просвещенный помещик и к своим дворовым нередко обращался
на "вы", к пожилым слугам часто по имени и отчеству, а к малолетним
уменьшительно-ласково -- "Ваня", "Петинька", и непременно с улыбкой, не
повышая голоса даже в минуту сильного раздражения. Так соблюдался
"хороший тон". Подобный тип замечательно передан И.С.
Тургеневым в образе Аркадия Павловича Пеночкина из рассказа "Бурмистр":
"Аркадий Павлыч... одевается отлично и со вкусом, удивительно хорошо
себя держит, дурным обществом решительно брезгает... дом у него в
порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый
день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо
моют... Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой
и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные
раздушенные усы... Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его
посещаю... странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме... Мы сидели на персидском диване. Аркадий
Павлыч пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал
себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении
духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч
налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. Отчего вино не нагрето? -- спросил он
одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как вкопанный и
побледнел. -- Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? -- спокойно
продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз. Несчастный камердинер
помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий
Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья. Pardon, mon cher, --
промолвил он с прятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего
колена, и снова уставился на камердинера. -- Ну, ступай, -- прибавил он
после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек,
толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими
глазами. -- Насчет Федора... распорядиться, -- проговорил Аркадий Павлыч
вполголоса и с совершенным самообладанием. Слушаю-с, -- отвечал толстый и вышел. Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни, -- весело заметил Аркадий Павлыч..." Достоверность и распространенность
образа такого помещика в реальной жизни подтверждается множеством
свидетельств. Один мемуарист описывает, как во время выступления перед
гостями крепостного хора певчих хозяин вдруг поморщился -- ему
показалось, что один из теноров немного сфальшивил, и он протяжным
голосом, с ласковой почти укоризной воскликнул: "Ах, Фединька!" Тенор
после этого возгласа попятился наз!ад и вскоре вовсе вышел из залы.
Минут через 15 он вернулся на свое место и продолжил пение. На вопрос о
том, куда ходил "Фединька", лакей невозмутимо отвечал, что на конюшню,
где ему и всыпали 25 "горячих". Изумленный гость, знавший этого помещика
как человека самого добродушного и нежного обращения, невольно спросил:
"Ну а если кто ошибется два и три раза? -- Так что ж, -- отвечал
лакей, -- разве у барина лесу на розги недостанет? Отпорят и два и три
раза. У нас и барин и управляющие люди добрые, лесу для нас не
жалеют. -- Но ведь барин не видит, можно и не сечь, -- продолжал свои
расспросы мемуарист. -- Нет, у нас этого не бывает. И кучера и розги для
нас всегда готовы, и там сидит такой иуда, что он от себя еще прибавит,
не то чтоб убавить. А чтобы вовсе не сечь? Да барин насмерть запорет
всех!" Подобно тому, как это было принято на
рабовладельческой плантации, в богатой барской усадьбе существовал целый
штат надсмотрщиков, постоянно ходивших с пучками розог за поясом, и в
обязанности которых входило чинить расправу в любом месте и в любое
время, когда это потребуется. Даже на охоту и в гости отправлялись не
иначе как с запасом розог, редко остававшихся без использования. Причем и
сами палачи могли тут же подвергнуться наказанию: по признанию одного
такого крепостного "малюты", у него "почти в том только время проходило,
что он или других сек, или его секли"... Пороли за любую оплошность --
действительную или только мнимую вину -- за неряшливость или за
щегольство, за громкий смех или за якобы мрачный взгляд, за опрокинутую
нечаянно солонку или за разбитое блюдце. Любивший образцовый порядок генерал
Измайлов распорядился однажды перепороть всех своих псарей на охоте за
то, что у мальчишки-псаренка слетел с головы картуз. А в другой раз
барский "казак" был трижды за один день выпорот: сначала за то, что его
лошадь коснулась хвостом до колеса господской кареты, затем за то, что
допустил свору собак слишком близко к лошадям, отчего возникла
опасность, что собаки могли покалечиться, и, наконец, за то, что, после
двойной экзекуции, не заметил притаившегося в поле зайца. Пороли поодиночке и целыми партиями, по
нескольку раз в день или по нескольку дней кряду, или сажали на цепь, от
которой освобождали только для того, чтобы заново высечь. От ежедневной
порки гнили спины, люди сходили с ума. Чем богаче был помещик, тем больше
возможностей было у него для наложения "взысканий". Пороли иногда
население целого села или всю дворню от мала до велика. Подобные
показательные порки регулярно практиковались некоторыми дворянами,
потому что здесь особенно зримо проявлялась неограниченная власть
господина над его рабами и вотчинами. Бедным помещикам оставалось только
искренне завидовать такой возможности для их состоятельных собратьев
насладиться всеми преимуществами принадлежности к привилегированному
сословию. "Какой вы счастливый, Михаил Петрович, -- говорил однажды
мелкопоместный богатому помещику, который... только что велел выпороть
поголовно всех крестьян одной своей деревеньки, -- выпорете этих
идолов, -- хоть душу отведете. А ведь у меня один уже "в бегах",
осталось всего четверо, и пороть-то боюсь, чтобы все не разбежались..." "Я отлично помню эти тенистые сады с
липовыми и кленовыми аллеями, террасы, обсаженные сиренью, на которых
при свете ламп за самоваром читались "Рыбаки" и "Дворянское гнездо" и
т. д. и с которых пришедшему за распоряжением на завтрашний день
старосте тут же отдавались приказания что поделаешь с нашим
народом! "взыскать" с Егорки или Марфушки", -- вспоминал писатель С.
Терпигорев о современном его детству быте обычной дворянской усадьбы
середины XIX века. Особенностью этого быта было то, что проявления
крайней жестокости в нем нередко соседствовали с прекрасной
образованностью, чадолюбием, набожностью и хлебосольным гостеприимством
русских помещиков. Запарывали насмерть крестьян, почитывали на досуге
"Евгения Онегина" или томик Тургенева и потчевали гостей домашними
наливками одни и те же люди. Андрей Болотов неоднократно приводит
возмущающие его примеры жестокого обращения господ со своими слугами. Но
при этом описывает собственные поступки в этом же роде, по-видимому не
замечая, насколько бесчеловечными они оказываются. Болотов признается,
что его раздражал старик столяр, имевший слабость к вину. Для
восстановления порядка он решил прибегнуть к таким мерам: "посекши его
немного, посадил я его в цепь, в намерении дать ему посидеть в ней
несколько дней и потом повторять сечение понемногу несколько раз, дабы
оно было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда
не любил драться слишком много... и если кого и секал... то секал очень
умеренно, и отнюдь не тираническим образом, как другие". Насколько действительно умеренными были
"взыскания" в поместье Болотова, можно судить по тому, что, когда
старику столяру в следующий раз грозило наказание, он не стал его
дожидаться и удавился, боясь, по словам самого мемуариста, "чтоб ему не
было какого истязания"... При этом Болотов с осуждением и, похоже, с
искренним недоумением пишет о том, что сыновья этого старика, прежде
исправные слуги, после гибели отца "сделались сущими извергами" и не
только стали оказывать ему грубости, но "даже дошли до такого безумия",
что один кричал, будто хочет схватить нож и пропороть Болотову живот, а
там и себя по горлу; а другой, и в правду схватив нож, хотел будто бы
зарезаться -- "словом, они оказались сущими злодеями, бунтовщиками и
извергами", -- заключает просвещенный помещик с полным осознанием своей
правоты. Этот маленький мятеж был подавлен очень быстро: братьев
посадили на цепь и, продержав на ней впроголодь две недели, добились от
них полного раскаяния. Телесные наказания превратились в
неотъемлемую часть дворянского быта. Нередко с них начинался и ими
заканчивался день помещика. В то время как сильно досадивших чем-нибудь
своему господину секли на конюшне, остальным щедро раздавались барской
рукой пощечины и зуботычины во всякое время -- и за обедом и за
молитвой. Сельский священник описывал, как это происходило: "Стоит
барыня на коленях, выкладывает кресты и вдруг увидит, что какая-нибудь
Малашка сделала что-нибудь не так, как хотелось бы барыне, например,
стул поставила не так, нечисто мела и т. п.... Барыня вдруг вскочит:
"Малашка, что ты делаешь?" И -- бац, бац по лицу и опять на колена:
"Господи! Соблазнила меня эта, помилуй меня Г" Примечательно, что образ помещицы,
чинящей расправу над своими рабами, очень часто встречается на страницах
воспоминаний и в других источниках. Уже приводилось мнение
современников, склонных считать, что дворянки даже превосходили в
жестокости мужчин, и многие документы, в том числе полицейские
донесения, вполне подтверждают эти отзывы. Например, в жандармском
отчете о поступках орловской помещицы княгини Трубецкой сказано: "Один
из крестьян отставного гвардии штабс-капитана князя Трубецкого,
отлучившийся из своей деревни для испрошения милостыни, был пойман и
закован в железо, а потом за медленную работу бит женою князя Трубецкого
несколько раз палкою, а наконец наказан кнутом, отчего он через
несколько дней умер... Обнаружено, между прочим, что княгиня Трубецкая неоднократно заковывала в железа крестьян и крестьянок, заставляла их в
таком положении работать, наказывая чрезмерно жестоко не только розгами,
но и кнутом; наказание это она повторяла весьма часто, а над одною
девкою продолжала три года сряду"... О другой дворянке, Стоцкой, сказано:
"Означенная помещица с давнего времени обращается со своими крестьянами
крайне жестоко, наказывая их собственноручно за малейшее упущение и даже
без всякой с их стороны вины, на каковой предмет она устроила в своей
комнате два железных пробоя, из которых один утвержден в потолке, а
другой под ним на полу, за которые сверху и снизу привязываются люди для
наказания..." Поведение с крепостными людьми княгини
Козловской и вовсе таково, что, по замечанию Ш. Массона, она
"олицетворяет в себе понятие о всевозможных неистовствах и гнусностях".
Кроме того, что наказания, которым Козловская подвергала своих слуг,
носили часто извращенный характер, они отличались просто патологической
жестокостью: в частности, она приказывала раздевать людей при себе
догола и натравливала на них собак. Массон писал о том, как она
наказывала своих служанок: "Прежде всего, несчастные жертвы подвергались
беспощадному сечению наголо; затем свирепая госпожа, для утоления своей
лютости, заставляла класть трепещущие груди на холодную мраморную доску
стола и собственноручно, с зверским наслаждением, секла эти нежные
части тела. Я сам видел одну из подобных мучениц, которую она часто
терзала таким образом и вдобавок еще изуродовала: вложив пальцы в рот,
она разодрала ей губы до ушей"... Рядом с такими примерами действительно совершенно невинными кажутся барыни, обходившиеся в своем быту без
садизма, лишь обычными мерами "взыскания", подобно бабушке мемуариста
В.В. Селиванова, о которой он писал, что она "нередко железным аршином
или безменом тузила нерадивых". Екатерина II не только отлично была
осведомлена о нравах поместного дворянства, но и находила возможным даже
высмеивать их в собственных сочинениях. В комедии "О время!",
сочиненной в 1772 году, императрица, словами горничной Маврушки,
описывает утро помещицы Ханжахиной: "Она встает поутру в шесть часов, и,
следуя древнему похвальному обычаю, сходит с постели на босу ногу;
сошед, оправляет пред образами лампаду; потом прочитает утренние молитвы
и акафист, потом чешет свою кошку, обирает с нее блохи и поет стих:
блажен, кто и скоты милует! А при сем пении и нас также миловать
изволит: иную пощечиной, иную тростью, а иную бранью и проклятием. Потом
начинается заутреня, во время которой то бранит дворецкого, то шепчет
молитвы, то посылает провинившихся накануне людей на конюшню пороть
батожьем..." Такое утро ничем не отличается от
описанного в другой главе пробуждения помещика Кошкарова и множества
других дворян и дворянок. У господ было принято вообще соединять
наказания крепостных людей с делами благочестия. А.И. Кошелев так
описывает одного из своих соседей-помещиков: "С.И.Ш. был набожен, не
пропускал ни обеден, ни заутрень, не пил чая до обедни и строго соблюдал
все посты; а между тем обычное его занятие между заутренею и обеднею по
праздникам было следующее: отправляясь к заутрене, он говорил:
"Приготовить", т. е. собрать в конторе людей, назначенных быть
сеченными, и припасти розги. После заутрени он приходил в контору, и
начиналось сечение. Когда истощалось число людей, подлежащих наказанию,
тогда он говорил: "Эй, скажи батьке благовестить". И спокойно
направлялся к самому началу часов". Постоянные наказания зависимых людей,
поначалу оправдываемые необходимостью -- их леностью, грубостью и т. д.,
незаметно превращались для господ в потребность, приобретали вид
психологической зависимости, или даже своего рода душевного
расстройства. Известный русский актер, М.С. Щепкин, был в детстве
крепостным человеком графа Волькенштейна. В своих записках о прошлом он
оставил яркое описание одной помещицы, часто наезжавшей в гости к его
госпоже. Она страдала приступами беспричинной тоски, которую научилась
очень своеобразно лечить -- давая пощечины своим дворовым девушкам.
После рукоприкладства к ней возвращалось хорошее настроение и доброе
расположение духа. Но однажды она приехала к графине Волькенштейн в
совершенном отчаянии, утверждая, что ее "девка" Машка хочет ее в гроб
положить: "Не могу найти случая дать ей пощечину, -- возмущалась
расстроенная дворянка. -- Уж я нарочно задавала ей разные поручения: все
сделает и выполнит так, что не к чему придраться... Она, правду
сказать, чудная девка и по работе, и по нравственности, да за что же я
страдаю: ведь от пощечины она бы не умерла!.." Дня через два приезжает
Марья Александровна веселая... смеется и плачет от радости. "--
Графинюшка, сегодня Машке две пощечины дала! -- Графиня спросила: -- За
что, разве она нашалила? -- Нет, за ней этого не бывает, но вы знаете,
что у меня кружевная фабрика, а она кружевница; так я ей такой урок
задала, что не хватит человеческой силы, чтоб его выполнить..." Такой разговор происходил в воскресенье,
а во вторник Марья Александровна приезжает к графине расстроенная и,
входя на порог, даже не поздоровавшись с хозяйкой, кричит, что "девка"
Машка непременно хочет ее уморить: "-- Как же, графиня, представьте
себе, вчера такой же урок задала -- что же? Мерзавка не спала, не ела, а
выполнила, и все только чтобы досадить мне! Это меня так рассердило,
что я не стерпела и с досады дала ей три пощечины; спасибо, нашла
причину: а, мерзавка! говорю ей, значит, ты и третьего дня могла
выполнить, а по лености и из желания сделать неприятность не выполнила,
так вот же тебе! И вместо двух дала три пощечины, а со всем тем не могу
до сих пор прийти в себя, и странное дело: обыкновенное средство
употребила, а страдания не прекращаются!.. По отъезде этой дамы графиня стала сожалеть об ней..." Грубое, часто жестокое обращение господ с
подневольными людьми служило развращающим примером для подрастающего
поколения. О том, что нравственное чувство дворянских детей калечилось в
родовых усадьбах, с замечательной откровенностью подтверждает сама
Екатерина II. Императрица писала: "Предрасположение к деспотизму...
прививается с самого раннего возраста детям, которые видят, с какой
жестокостью их родители обращаются со своими слугами..." Привыкая с детства не знать другого
способа взыскания, кроме пощечин, палок и плетей, поступая в службу и
становясь офицерами, молодые дворяне использовали это же средство и по
отношению к солдатам. По свидетельству многих современнико, в даже за
несколько лет перед отменой крепостного права розги и шпицрутены
назначались для солдат в числе 10 000 -- 15 000! У Льва Толстого в одном
из его очерков сохранился рассказ старого солдата о том, как наказывали
в императорской армии: "Мы ночевали у 95-летнего солдата. Он служил при
Александре I и Николае. Что, умереть хочешь? Умереть? Еще как хочу. Прежде боялся, а
теперь об одном Бога прошу: только бы покаяться, причаститься привел
Бог. А то грехов много... У! Вспоминать, так ужасть берет. Я еще
Александра застал. Александра того хвалили солдаты, говорили -- милостив
был. Я вспомнил последние времена
царствования Александра, когда из 100 -- 20 человек забивали насмерть.
Хорош же был Николай, когда в сравнении с ним Александр казался
милостивым. А мне довелось при Николае служить, --
сказал старик. -- И тотчас же оживился и стал рассказывать. -- Тогда что
было, -- заговорил он. -- Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150,
200, 300... насмерть запарывали. -- Говорил он и с отвращением, и с
ужасом, и не без гордости о прежнем молодечестве. -- А уж палками --
недели не проходило, чтобы не забивали насмерть человека или двух из
полка. Нынче уж и не знают, что такое палки, а тогда это словечко со рта
не сходило. Палки, палки!.. У нас и солдаты Николая Палкиным прозвали.
Николай Павлыч, а они говорят Николай Палкин. Так и пошло ему
прозвище... Я живо представил себе то, что должно
вспоминаться в его старческом одиночестве этому умирающему человеку, и
мне вчуже стало жутко. Я спросил его про гоняние сквозь строй. Он
рассказал подробно про это ужасное дело. Как ведут человека,
привязанного к ружьям и между поставленными улицей солдатами с
шпицрутенами, как все бьют, а позади солдат ходят офицеры и покрикивают:
"Бей больней!" -- "Бей больней!" -- прокричал старик
начальническим голосом, очевидно не без удовольствия вспоминая и
передавая этот молодечески-начальнический тон... Он рассказал о том, как водят
несчастного взад и вперед между рядами, как тянется и падает забиваемый
человек на штыки, как сначала видны кровяные рубцы, как они
перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брызжет
кровь, как клочьями летит окровавленное мясо, как оголяются кости, как
сначала еще кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым
шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор, для этого
приставленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли
еще бить человека или надо погодить и отложить до другого раза, когда
заживет, чтобы можно было начать мучение сначала и додать то количество
ударов, которое какие-то звери, с Панлкиным во главе, решили, что надо
дать ему. Доктор употребляет свое знание на то, чтобы человек не умер
прежде, чем не вынесет все те мучения, которые может вынести его тело. Рассказывал солдат, как после того, как
он не может больше ходить, несчастного кладут на шинель ничком и с
кровяной подушкой во всю спину несут в госпиталь вылечиваться с тем,
чтобы, когда он вылечится, додать ему ту тысячу или две палок, которые
он недополучил и не вынес сразу. Рассказывал, как они просят смерти и им
не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз. И он живет и лечится в госпитале, ожидая новых мучений, которые доведут его до смерти. И его ведут во второй или третий раз и тогда уже добивают насмерть..." Неудивительно, что приходя в армию с
навыками надсмотрщиков и развив эти навыки за время службы, дворяне, по
возвращении в свои имения, с крестьянами обращались хуже чем со скотом.
Вот что сообщается в полицейском отчете о поступках отставного вахмистра
лейб-гвардии конного полка Дмитрия Салтыкова: "Жестокости вахмистра
Салтыкова состоят в том, что он беспрестанно бьет своих крестьян, за
вину ли любую или и без вины редко кто не потерпит от него побоев или
другого оскорбления. Привычка его самая несносная есть бить только по
голове и большей частью палкою, или держа в руке табакерку, или чем
случится..." О другом отставном офицере, вступившем в
права владения имением, говорится: "Молодой хозяин не разлучается с
плетью. Пойдет утром рано на гумно, да и станет у ворот. Лишь только кто
немного запоздает, он и примется лупить с плеча, а сам мужчина высокий,
толстый и уже выпивши. Баба... запоздала, -- барин встретит ее и хватит
плетью. Та упадет, а он не даст ей встать и полосует с плеча, пока она
не доползет на четвереньках до риги..." Господа не задумываясь пускали в ход
кулаки и плети, чтобы излить гнев на крепостных, но все-таки настоящую
расправу чинили по приказу помещика специально отобранные для этого люди
из числа дворни, как правило, кучера. Они сопровождали помещика повсюду
в усадьбе и при выезде на поля. Некоторые дворяне, особенно из числа
заядлых охотников, в помощь кучерам придавали специально
выдрессированных собак. С собаками конвоировали крестьян до места
заключения или расправы, с ними стерегли заключенных. Собаками травили
людей, причем делалось это нередко публично. Сельский священник описывает одну из
таких казней в имении известного ему помещика: "Однажды один из дворовых
его людей, и вдобавок живописец, уехал в соседнее село на базар, не
спросясь барина. Барин велел раздеть его донага, вывести на середину
двора, подать себе кресло и начать сечь... И плечи, и руки, и ноги, и
спина -- все было иссечено; человек весь облит был кровью. Барин велел
перестать сечь и заставил его идти домой. Едва живой, поплелся, было,
несчастный, но барин натравил собаку, и та, тут же на месте, изорвала
его до смерти". * * * "Нет дома, в котором не было бы железных
ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки"!.. -- это
собственное утверждение императрицы Екатерины II достаточно выразительно
характеризует жестокость и степень распространенности физических
наказаний крепостных людей в Российской империи. Виды "взысканий"
действительно были весьма разнообразны, в них нашла свое выражение
извращенная и садистская фантазия душевладельцев, возродивших в России
XVIII-XIX столетий практику самых лютых средневековых пыток. Некоторые помещики обставляли процесс
наказаний с театральной торжественностью, устраивали целые судебные
процессы. Богач-помещик времен Екатерины, Николай Струйский,
поэт-любитель, женатый на красавице, запечатленной кистью Рокотова и
воспетой в стихах Н. Заболоцкого, кроме поэзии имел страсть к исполнению
должности прокурора. Не сумев реализовать ее в общественной жизни,
Струйский перенес ее в жизнь частную. В.О. Ключевский писал об этом:
"Любитель муз был еще великий юрист и завел у себя в деревне
юриспруденцию по всем правилам европейской юридической науки. Он сам
судил своих мужиков, составлял обвинительные акты... но, что всего хуже,
вся эта цивилизованная судебная процедура была соединена с...
варварским следственным средством -- пыткой; подвалы в доме Струйского
были наполнены орудиями пытки". Впрочем, большинство дворян
расправлялось с крепостными людьми без всякого стремления обставить этот
процесс театральными декорациями и, тем более, придать ему внешнее
изящество. Расправа, немедленная и жестокая, в том числе смертельная,
следует часто без всякого повода, просто если господину пришла охота
сорвать зло на некстати подвернувшемся "хаме". Так, помещик Алексей
Лопухин собственноручно избивает обратившегося к нему с какой-то
просьбой пожилого крестьянина, нанеся ему около сотни палочных ударов,
отчего у старика пошла горлом кровь и он умер тут же, на господском
дворе, на глазах у своих сыновей. Тверская помещица Горина, подозревая
крестьянку в краже сала, велела высечь ее, от чего та, будучи
беременной, спустя четыре дня выкинула мертвого младенца, а через две
недели умерла. Курский помещик Солодилов, пьяным и в сопровождении
дворовых девушек, пришел ночью в людскую избу и принялся избивать
крестьянина Гончарова, обвиняя его в притворстве и подготовке побега. Бил всем, что пришлось под руку, в том числе ружейным дулом в живот.
После этого едва живому крестьянину велел целовать себе руку и
спрашивал, не болит ли у него живот. Гончаров ответил, что перестал
болеть. Тогда барин усадил его рядом с собой и велел поднести ему водки,
после чего отпустил спать. Ночью Гончаров умер. Когда об этом донесли
помещику, он добродушно заметил: "вечная ему память, Бог с ним: он нам
работал!" Чиновник Родионов, добиваясь от своей 14-летней крепостной
девочки признания в краже денег, несколько раз жестоко сек ее розгами и
плетью, затем привязал к скамье и снова высек, после чего прижигал ей
спину зажженными прутьями и одновременно с этим бил ремнями из
засушенной воловьей шкуры и, наконец, бросил истерзанную девочку в
холодный чулан. Через две недели она умерла, и врачом при осмотре тела
были подтверждены "жестокие обжоги". Подобных случаев -- множество, они
происходили постоянно на протяжении всего времени существования
крепостного права. Описанные выше выборочные происшествия стали известны
только потому, что по ряду причин на них было обращено внимание
полицейских органов, но, как писал А. Повалишин: "Возбуждаемые дела о
жестоком обращении помещиков со своими крестьянами не дают вполне
точного представления о действительности: много совершалось такого, что
навсегда останется для нас под покровом вечной непроницаемой тайны". Но и расследования тех преступлений,
которые становились известны полиции, или, скорее, по которым вынуждены
были начать следствие, только в редких случаях заканчивались обвинением
или наказанием для "благородного" преступника. Вся местная власть,
включая полицейских чиновников, была из дворян или контролировалась
дворянством. А.И. Кошелев, избранный в предводители уездного дворянства,
в своих воспоминаниях передавал о том, как понималась помещиками
сословная этика. Один из них обращался с крестьянами столь жестоко, что
вынудил Кошелева сделать ему внушение о необходимости изменить образ
управления крепостными людьми под угрозой карательных мер. Кошелев
пишет: "Он крайне этим обиделся и изумился, что предводитель дворянства
вздумал вмешиваться в его домашние дела, и сказал мне, что давно живет в
уезде, что никогда ни один предводитель не позволял себе подобных
внушений, и что он хорошо знает свои права... и что о моих действиях,
клонящихся к возмущению крепостных людей, он считает долгом донести
высшему начальству". Этот помещик исполнил свою угрозу и действительно
выехал в Рязань с жалобой губернскому предводителю дворянства, который, к
его удовольствию, нашел поступок Кошелева "не согласным с настоящими
дворянскими чувствами и понятиями". Один помещик с такой жестокостью
подвергал крестьян порке, что многие умирали прямо под батогами, другие
спустя несколько дней после наказания. Каким-то образом после очередного
убийства двинулось следствие -- в усадьбу приехал исправник, с ним
лекарь, осмотрели труп, опросили свидетелей. Причем свидетелей, а они
все были из крестьян этого помещика, поодиночке вызывали в дом к барину и
там допрашивали. Следствие закончилось очень быстро -- на основании
свидетельских показаний выходило, что покойник едва ли не "сам себя
засек". В другой раз таким абсурдным решением отделаться не удалось, и вся вина за новое
убийство была свалена на старосту. Тот отправился на каторгу, а барин
был признан невиновным и мог дальше заниматься "взысканиями". Подобные преступления происходили не
только в сельских усадьбах -- привыкнув к безнаказанности, дворяне так
же расправлялись с крепостными людьми в городах, в непосредственной
близости от государственных учреждений и представителей власти.
Отставной капитан Шестаков, проживавший в Ярославле, так бесчеловечно
обращался с дворовыми, что его соседи, не вынеся отвратительных сцен
насилия, жаловались на него в полицию. По их заявлению, Шестаков "людей
своих тирански мучил, так что все оное по человеколюбию стороннему
слышать ужасно было", и что он, "будучи всегда пьян, людей своих сечет
днем и ночью бесчеловечно". Из многих насильственных поступков
капитана примечательны следующие: однажды он пьяным повалил на пол
одного из дворовых и бил и топтал его ногами, потом привязал к столбу во
дворе и сек "езжалыми кнутьями". В другой раз он выпорол плетьми
дворового, затем заковал его в цепь и посадил под замок в холодную баню,
на следующее утро снова выпорол плетьми и затем опять отправил в
холодную баню. У себя в имении Шестаков вовсе стрелял по крестьянам из
ружья, чем довел их наконец до открытого возмущения. Приехавшие в
усадьбу полицейские и представители уездного суда были принуждены
вопиющими фактами обвинить Шестакова в "развратных и непристойных чести"
поступках. Допросив крестьян и осмотрев многих из них, обнаружилось,
что "у одних помещик разрубил руки ножом, у других даже вовсе
переломил". Какое же решение по этому делу вынес суд? Шестакову было
внушено, чтобы впредь он порядочно вел себя с подвластными людьми, в чем
с него была взята расписка... Нельзя забывать, что законодательство, в
том числе именные императорские указы, прямо запрещали любые жалобы
крепостным на помещиков. Так что с формальной точки зрения эти
чиновники, столь лояльно отнесшиеся к Шестакову, нисколько не
злоупотребляли своей властью в его пользу. По мысли законодателя, они
вообще не должны были вмешиваться во взаимоотношения дворянина с его
рабами. Поэтому в большинстве случаев местные чиновники даже не вникали в
суть крестьянских жалоб, а под конвоем отправляли жалобщиков обратно в
усадьбу владельца, где их ожидала, как правило, еще более жестокая
расправа. Заблоцкий-Десятовский отметил в своем
отчете, что часто чиновникам "достаточно одной жалобы... чтобы в
крестьянах видеть бунтовщиков. Так заставляют смотреть на дело личные
интересы властей и в некотором отношении самый закон". Дальше Заблоцкий
рассказывает, как из усадьбы, расположенной в Саратовской губернии,
бежали 14 крестьян, доведенных до отчаяния притеснениями своей госпожи.
Причем эти люди, в надежде на заступничество, явились в город и
обратились за помощью прямо в государственный орган -- к уездному
стряпчему. Стряпчий отправил их в уездный суд, где на допросе они
показали, что "помещица тиранит их, бьет и кусает...
не дает ни пищи, ни одежды". Один из них признался, что барыня
"призывает его во двор и в наказание заставляет его же собственных детей
бить его -- отца их; одна женщина показала, что от сильных побоев
пропало у нее молоко в груди; другая -- что была сечена немилосердно;
третья -- что она беременная бита была палками перед господским
крыльцом, пришла оттого в беспамятство и, отправившись домой, дорогой
выкинула, но сама уже не помнит, как была принесена в избу и куда
девался ребенок. Полагали, что ребенок съеден был дворовой собакой,
потому что видели рыло у сей последней в крови... При сем представлены
были клоки вырванных волос, железный аршин, кочерга, которыми
производились побои. Вследствие показаний сделан был
медицинский осмотр. Уездный врач нашел следы зубов на плечах !),
множество знаков от розог и струпья на ягодицах, следы прошиба на голове
и пр. Что же сделал после всего этого суд?
Прочел жаловавшимся крестьянам закон о повиновении помещику, сделал с
них же взыскание и отдал в полную волю госпоже, которая стала продолжать
тиранить не только жаловавшихся, но даже и всех родных их". Примечательно, в чем состояло это
"взыскание" с просителей. Их жестоко выпороли казенными розгами,
некоторым остригли по полголовы и, как сообщают сами крестьяне в своем
обращении на имя губернатора, "наругавшись, как им было угодно и как
только вздумать могли, отослали к госпоже, кроме одного, которого
посадили без всякой вины в рабочий дом, на неизвестный срок"... Этот и множество подобных случаев могли
бы показаться слишком неправдоподобными по жестокости, если бы не
подтверждались документами эпохи. На самом деле реальность крепостной
России была такова, что помещики вели себя в ней действительно как
завоеватели в завоеванной стране, и государственная власть практически
всегда вставала на их сторону. В некоторых случаях правительство все же
пыталось ограничить произвол господского управления и наложить взыскания
на самого помещика. Правда, по свидетельству В.И. Семевского,
исследовавшего проблему телесных наказаний крепостных крестьян,
"попадали под суд только более мелкие помещики, богатые и сильные
люди... умели запугать всех местных чиновников и схоронить концы в
воду". Но что могло угрожать тем дворянам, кто
все-таки оказался под следствием за жестокое обращение с крепостными
людьми? Вот, например, в имении помещика Одинцова 20 июня 1844 года
крепостная девочка Марфа Иванова пасла цыплят и одного из них потеряла.
Одинцов, узнав об этом, взял толстую веревку и принялся избивать
ребенка. Мать девочки, забрав ее после побоев, обратилась к знахарке, но
лечение не помогло. Марфа чувствовала себя все слабее, и 24-го мать
понесла ее в церковь для причастия, причем показала священнику следы
побоев. После этого девочка умерла. При освидетельствовании трупа на
левой руке и правой ноге были обнаружены следы воспалительной горячки,
которая и привела к смерти. Но врач отказался утверждать наверняка,
образовались эти нарывы из-за побоев или существовали раньше. На
основании этих неопределенных выводов уездный суд следствие прекратил,
Одинцова освободили, а уголовная палата сочла возможным лишь "оставить
его в подозрении". Дело должно было кончиться так же, как тысячи
подобных дел, случавшихся ежедневно, т. е. ничем, но оно стало известно в
Сенате. Сенат рассмотрел обстоятельства происшествия и не согласился с
решением уездного суда. Сенаторы сочли, что выявленные доказательства
служат к обвинению Одинцова в жестоком и неосторожном наказании больной
девочки, которое могло ускорить ее смерть. В качестве наказания Сенат
постановил -- предать помещика Одинцова... церковному покаянию по
усмотрению духовного начальства "и при том подтвердить ему, Одинцову,
чтобы впредь обращался осторожно, особенно с больными". Осталось неизвестным, подействовало ли
назначенное церковное покаяние и внушение на исправление нрава этого
помещика, но Сенат, решая подобные дела, из всего перечня возможных
наказаний для убийц чаще всего предпочитал обращаться к ненасильственным
средствам воздействия на жестоких душевладельцев. В Петербурге тайная советница Ефремова
так жестоко приказала сечь батогами дворовую девушку, что та на
следующий день умерла. Полиции советница заявила, что "девка" была ею
наказана за многие "противности, воровства и побеги", что наказали ее
весьма умеренно, а смерть приключилась от яда, который она проглотила, а
отнять у нее не успели. Но вскрытие следов яда не обнаружило, а вместо
этого на спине нашли следы антонова огня от, как сказано в заключении, шребезмерного битья".
Помещица Кашинцева так жестоко истязала свою служанку, что та
повесилась; другая дворянка, Гордеева, до смерти запытала дворовую
женщину; оренбургская помещица генеральша фон Эттингер приказала в своем
присутствии выпороть крестьянина, обвиненного в побеге, который после
наказания умер в тот же день... -- перечисление примеров подобного рода
может занять много томов и составить мрачную летопись России эпохи
крепостного права. За перечисленные преступления были
назначены следующие наказания: тайная советница Ефремова, помещицы
Кашинцева и Гордеева осуждены к церковному покаянию. С приговором
генеральше фон Эттингер получилась курьезная заминка. Сенат приговорил
ее сначала также к покаянию, но императрица Екатерина вмешалась в
рассмотрение дела и обнаружила за генеральшей еще одну вину, более
серьезную на ее взгляд, чем убийство крепостного. Она напомнила
сенаторам, что, согласно законодательству, наказание за побег и
воровство находится в ведении уездного суда, и фон Эттингер,
самостоятельно расправившись с беглецом, тем самым вступила в сферу
деятельности государственного органа. Сенаторы были удивлены реакцией
правительницы, поскольку всем было известно, что в любой усадьбе людей
секут, и нередко до смерти, за меньшие вины, чем побег. Но, не считая
уместным спорить с императрицей и желая ей угодить, Сенат тотчас же
поменял свое решение и присудил генеральшу "за непредставление
крестьянина в гражданский суд" не только к покаянию, но и к конфискации
имения. Екатерина, которая, как кажется, вступилась в это дело
совершенно случайно, возможно, даже просто из желания продемонстрировать
свою осведомленность в законах, узнав о новом решении сенаторов,
спохватилась и немедленно утвердила первоначальный мягкий приговор,
состоящий в епитимье. Но важнее обратить внимание не столько
на очевидное несоответствие наказания совершенным деяниям, сколько на
сам факт привлечения помещиков к суду. На первый взгляд, он
свидетельствует о том, что правительство все же склонно было
рассматривать гибель крепостных людей от наказаний как преступление,
значительно ограничивая тем самым рабовладельческие полномочия
помещиков. Здесь проявляется еще одно отличие русского крепостного права
от других видов рабства, известных из истории. Но это отличие не было
следствием четкой позиции государственной власти, оно происходило от
нерешительности правительства, заискивавшего перед дворянством, как
опорой трона, но обоснованно опасавшегося при этом народного возмущения. В таком положении предпочитали неопределенность, оставлявшую
возможность каждый раз поступать по обстоятельствам. Ни один закон Российской империи прямо
не разрешал помещикам убивать или наказывать до смерти своих крепостных,
но ни один закон и не запрещал этого. Одновременно общее содержание
государственных законов и именных императорских указов утверждало в
господах представление о крепостном, как своей полной собственности, --
ведь если крестьянина можно было продать, подарить, завещать, проиграть в
карты, сослать, разлучить с семьей, то из таких широких полномочий
неизбежно следовала уверенность в том, что и его жизнь также принадлежит
господину. Это убеждение, в общем, находило себе опору в
действительности, поскольку из юридической практики известно всего
несколько приговоров помещикам, обвиненным в убийстве крепостных,
закончившихся хотя бы длительным тюремным заключением или каторгой.
Причем все они относятся в основном ко времени, предшествующему
появлению екатерининской "Жалованной грамоты" дворянству. Во всех
остальных случаях из тех, что вообще доходили до внимания суда,
назначались гораздо более мягкие наказания -- как видно из
вышеприведенных примеров: епитимья на усмотрение духовника, гораздо реже
-- принудительное проживание в монастыре в течение нескольких месяцев,
совсем редко -- арест и непродолжительное тюремное заключение. Доказать вину помещика было тем сложнее,
что жестоко наказанные люди все-таки редко умирали прямо под кнутами и
розгами. Как правило, смерть от истязаний наступала через несколько
дней, и господин использовал это обстоятельство в свое оправдание,
опираясь на вынужденные свидетельские показания других крестьян и даже
родственников убитого. Особенно часто безнаказанной для господ проходила
гибель беременных женщин, а среди физических расправ над крепостными
случаев битья именно беременных крестьянок встречается чрезвычайно
много. Кроме того, что их подвергают наравне с прочими бесчеловечной
порке, господа и госпожи назначают их на тяжелые работы, бьют железными
аршинами и кочергами по спине, по голове, по животу, от чего случались
выкидыши, и женщины вскоре умирали сами, но их смерть приписывали
естественным причинам. Если помещик и оказывался уличенным в
убийстве крепостного, а замять дело не удавалось, то суд обычно
подвергал "взысканию" только его слуг, выполнявших жестокие приказы.
Объясняли такое решение тем, что господин якобы не имел намерения лишить
наказанного жизни и приказал только "слегка посечь", а исполнители
перестарались. Их самих секли и ссылали на каторгу. Уходу от
ответственности способствовало и затягивание расследования с помощью
местных чиновников, запоздалое медицинское освидетельствование трупов,
когда становилось невозможным выявить причины гибели и тем самым
определить виновного. Нередко такие дела вовсе заканчивались судом и
наказанием не убийцам, а тем крестьянам, которые смели приносить на
своего господина жалобу. Вот только некоторые из множества
подобных дел. Собрался однажды помещик Суханов на охоту и прихватил с
собой 12-летнего мальчика. Ребенок в чем-то провинился перед барином --
как утверждали свидетели, упустил зайца. Взбешенный господин свалил его
на землю ударом ружейного приклада и стал избивать ногами по груди и
животу, причем кричал: "издыхай скорее!" Мальчик без сознания пролежал
долго на земле, а после окончания охоты помещик сначала взял его к себе в
дрожки, но тот от слабости все время заваливался в сторону, чем опять
раздражил Суханова. Барин столкнул мальчика на землю, снова крикнув ему:
"Ну, издыхай скорее" -- и уехал. Несколько дворовых слуг принесли
мальчика домой к его матери, но через два дня он умер. "Врач и
заседатель, по обыкновению, приехали через неделю, когда тело, будучи в
теплой избе, достаточно уже разложилось, признаков побоев не открыли,
хотя бывшие при осмотре понятые и указывали на животе, ниже пупа, над
тайным местом синие по обе стороны в ладонь пятна. На это замечание
стряпчий с криком и бранью отвечал им: "Разве вы не видите, что болезнь
его испортила?" А когда крестьянин Петров тоже указывал на это место, то
заседатель закричал на него: "Ты здесь доказываешь, а недоимки не
платишь", -- ударил его по щеке, а по окончании осмотра отправил в сарай
и велел выпороть. Сам Суханов принял и другие меры... всем крестьянам,
знавшим и видевшим событие, строго было приказано молчать под опасением
"содрать шкуру". Крестьянин другого помещика, Плужникова,
прибежал к священнику с просьбой причастить умирающего односельчанина
Николаева, избитого барином. На исповеди умирающий признался, что
умирает от побоев господина, но просил никому не говорить об этом, если
выживет. Николаев умер, и началось следствие. Лекарь, конечно, не
обнаружил на трупе никаких признаков избиения и причиной смерти
определил горячку. Но при вторичном осмотре тела следователем были
выявлены на теле "боевые знаки и пятна" около глаз, груди, ушей и на
левом боку. Однако вскрытия не производилось из-за отсутствия врачей, а
когда их отыскали, тело разложилось настолько, что никаких выводов уже
сделать было нельзя. Плужников остался безнаказанным. В пруду рязанских помещиков Кармалиных
нашли труп маленькой крестьянской девочки Улиты. По свидетельству
крепостных Кармалиных, ребенок был убит господами и сброшен в пруд. И
хотя при осмотре врачом на теле были выявлены следы сильных прижизненных
повреждений, дело закончилось оправданием "за недостатком улик".
Доведенные до отчаяния жестокими наказаниями крестьяне помещика
Шиловского жаловались губернатору на своего господина. Результатом этого
обращения к защите государственной власти стало то, что жалобщиков
отдали под суд "за бунт", правда, в то же время уездному предводителю
дворянства было предписано внушить Шиловскому, "чтобы он в рассуждении
людей и крестьян своих употреблял более снисхождения, нежели строгости". Помещики Польские творили у себя в
имении настоящие бесчинства, подвергая крепостных всевозможным
издевательствам. Они секли их розгами и плетьми, били палками или просто
кулаками и ногами, драли за волосы крестьянок и обривали им головы,
после порки иссеченное тело часто поливали водкой! Когда две дворовые
девушки после очередного избиения решили пожаловаться на владельцев
предводителю дворянства, тот нашел возможным только под конвоем
отправить их обратно в имение господ Польских. Те в наказание посадили
их на цепь, одели на шею рогатки и продержали так около месяца на хлебе и
воде, причем заставляя в этом положении прясть нитки для господского
обихода. На Пасху жестоко выпороли 11-летнего мальчика... В ответ на
запрос из канцелярии губернатора, куда дошли все-таки сведения о
поведении этих дворян, уездный предводитель дворянства увернно сообщал,
что "со стороны Польских особых жестокостей не обнаружено", а любые
вмешательства в их отношения с крепостными нежелательны, так как "могут
дать повод крестьянам к явному неповиновению". Дворянская круговая порука была так
сильна, что с ней трудно было бороться даже губернатору, если он вдруг
решался приостановить помещичий произвол. Помещик Владимирской губернии
Карташев, по свидетельству сторонних свидетелей, в том числе нескольких
духовных лиц, творил у себя в имении "столь жестокие и бесчеловечные
побои", что одни из его крепостных умерли насильственной смертью, а
другие бежали. И несмотря на то, что владелец переселял туда постоянно
новых крестьян, население усадьбы не увеличивалось и многие дворы стояли
пустыми. Те из крестьян Карташева, кто не был засечен и не подался в
бега, многие сидели в заключении в поместной тюрьме и питались только
подаянием, которое приносили им родные или вовсе сторонние люди,
прохожие и жители соседних сел. Остававшиеся на свободе крестьяне
Карташева были так разорены помещиком, что забросили хозяйства и также
перебивались милостыней, причем свидетели утверждали, что приходящие за
милостыней карташевские люди по большей части были иссечены. У некоторых
были переломаны руки, а одна дворовая женщина была так избита, что
"наподобие бессловесных животных едва могла ползать на руках и ногах".
По показаниям очевидцев, помещик бил ее палкой и переломил "спинную
кость", отчего она была все время в согнутом положении. Но Карташев и за
это ее неоднократно избивал, а увидев как-то на работе в поле
согнувшейся, "ударил раза четыре ружейным прикладом, отчего и ныне раны
есть". Крестьяне подали жалобу на помещика в
руки губернатора графа Салтыкова. После проведенного расследования все
обвинения подтвердились, и Салтыков приказал Карташева арестовать, а
доказательства передать в уездный суд. Но через несколько месяцев
выяснилось, что дело никак не продвинулось из-за сознательного
бездействия чиновников. Пока разгневанный таким откровенным саботажем
его распоряжений губернатор расправлялся с судейскими, Карташев при
помощи соседей-дворян обратился с прошением прямо к императрице, в
котором обвинял Салтыкова в пристрастном отношении к нему, разорении
усадьбы и едва ли не в подготовке крестьянского бунта. Екатерина II
приказала Карташева из-под ареста освободить, и хотя впредь до
окончательного решения дела от управления усадьбой его отстранить, но
обеспечить исправное получение помещиком доходов от своего имения. Карташев сразу после освобождения
отправился в Петербург и здесь развил такую активную деятельность, что
скоро сенат потребовал от Салтыкова объяснений в его действиях, и
губернатор вынужден был оправдываться в том, что он принял жалобу от
крестьян и начал расследование всего дела. Другой случай также характерен.
Влиятельный и богатый помещик, князь Гагарин, как сообщалось в секретном
отчете о его образе жизни, "людей своих содержит весьма неприлично,
люди не имеют пристойной одежды, изнурены работами, помещик обходится с
ними весьма жестоко". Он также "часто и безвинно наказывает людей своих
собственноручно арапником, плетью, кнутом, палкою и вообще чем попало".
Примечательно, что почти одновременно с этим дворяне-соседи Гагарина
характеризовали его совершенно иначе, заявляли, что князь "довольно был
попечителей о состоянии крестьян"... На самом деле, кроме того, что князь
порол и избивал своих крестьян, он также сажал их на цепь, морил голодом
и широко использовал другие способы "взыскания", распространенные в
помещичьей среде, но все как-то обходилось без смертельных исходов, по
крайней мере явно связанных с наказаниями. Наконец крепостной человек
Андрей Федоров был найден повешенным. Хотя многое, в том числе показания
некоторых свидетелей, указывало на насильственную гибель по воле
помещика, дело оставили без расследования "за неимением улик", а
Федорова объявили самоубийцей. Но князь, как кажется, за что-то
невзлюбил всю семью погибшего крестьянина. В конце ноября 1816 года у
Гагарина был званый вечер, а после отъезда гостей он, будучи пьян,
приказал привести к себе Михаила Андреева, сына повешенного Андрея
Фролова, который служил на псарне и был обязан ухаживать за щенками.
Когда его привели, Гагарин стал спрашивать, почему зачумели щенята, и
затем, не дожидаясь ответа, принялся бить его. Андреев попытался
убежать, но его поймали и вновь привели к князю. Гагарин приказал
конюхам снять с него одежду и одеть на шею собачью цепь. Андреева
оставили в одной рубахе и босиком вывели на холодный двор, занесенный
снегом. Два часа человека водили по двору на цепи, подстегивая
арапником, а затем снова привели к Гагарину, который "схватил его обеими
руками за волосы, повалил на пол и начал таскать, бить об пол, пинками,
давить под челюсти, а затем, когда Андреев поднялся, то ударил его по
щеке так, что тот вновь упал на пол и более уже не вставал". Забив Андреева насмерть, Гагарин продолжал пинать ногами уже труп крепостного, приговаривая: "Твой отец стоил мне 5 тысяч, а за тебя я не пожалею и всего своего имения". После этого он приказал запрягать лошадей и отправился в город. Через два дня в имение приехали
исправник и стряпчий, причем врача, штаб-лекаря Шрейбера, не было еще
долгое время, а когда он появился, то никаких признаков насилия на теле
не обнаружил, зато в желудке отыскал "малое количество мышьяка". Так
возникла официальная версия об очередном самоубийстве, по которой
Андреев, после незначительных побоев, выбежал из комнат, вытащил из
кармана пакетик с отравой и всыпал себе в рот. Для утверждения этой
версии следствия были предприняты некоторые меры: свидетелей удалили из
усадьбы: одних разослали в другие имения Гагарина, остальным помещик
приказал молчать под угрозой расправы. Находившийся неотлучно рядом с
князем исправник Маслов убеждал при этом крепостных, что их
обвинительные показания все равно не будут иметь по закону никакой силы.
В результате почти все очевидцы подтвердили версию следствия о
самоотравлении Андреева. Нашлось только четверо крестьян, смело
настаивавших на том, что смерть произошла от побоев помещика. Отчасти
настойчивость этих людей, отчасти некоторые другие обстоятельства
заставили местную власть в лице уездного предводителя дворянства и
уездного стряпчего провести повторное расследование и
освидетельствование трупа. Это расследование закончилось тем, что бывший
при медицинском осмотре уже другой врач хотя и нашел некоторые "боевые
знаки" на голове и других местах, все же сделал вывод, что смерть
произошла от отравления мышьяком. Дело снова закрыли, а четверых
крестьян, осмелившихся свидетельствовать правду, по распоряжению
уездного суда заключили в острог за неповиновение помещичьей власти. Наконец нашелся кто-то, скорее всего из
дворян, когда-то обиженных Гагариным князь был скор на расправу, и
неоднократно возникали скандалы с его участием, когда он не стеснялся
рукоприкладствовать и с собратьями по сословию, в частности, избил двоих
офицеров), и донес об этом деле в Петербург. В усадьбу приехал из
столицы чиновник по особым поручениям Федотов, и расследование началось
заново. Как и опасались местные власти вместе с Гагариным, Федотов
довольно быстро установил действительные обстоятельства убийства.
Единственной заминкой для окончательного обвинения оставалось двойное
медицинское заключение об отравлении. Был проведен третий осмотр, в
результате которого врач Тиханович определил причиной смерти сильное
сотрясение мозга от ушиба головы. Но княжеская сторона не сдавалась и
привлекла к осмотру нового влиятельного эксперта, на выводы которого
имела основания надеяться. Ожидания Гагарина не были обмануты, новый
эксперт подтвердил первоначальную версию об отравлении. Дело должно было
закончиться благоприятно для убийцы, но Федотов, благодаря своим
полномочиям, сумел передать все результаты экспертиз на рассмотрение в
высшую инстанцию -- медицинский совет Министерства внутренних дел. Но и
здесь мнения специалистов поначалу оказались неопределенными. Совет,
обратив внимание на целый ряд упущений врачей при осмотрах тела и, в
частности, на то, что все заявления об отравлении были абсолютно
голословны и не подтверждены необходимыми химическими исследованиями,
счел "невозможным заключить с достоверностью о роде и причине смерти
Андреева". И все же, признав показания свидетелей о том, что Андреева
практически без одежды водили на морозе с цепью на шее, а также наличие
"боевых знаков", доказывающих факт жестокого избиения, и, кроме того,
некоторые анатомические изменения, найденные при осмотре внутренних
органов, явно бывшие следствием нанесенных травм, медицинский совет
пришел к выводу, что именно побои и были причиной смерти. Доказательства были собраны, и должен
был состояться суд над убийцей. Но незадолго до окончания следствия и к
облегчению самих следователей и судей, князь Гагарин умер. За смертью
обвиняемого дело было немедленно закрыто, но без карательных мер не
обошлось. Слуги Гагарина, соучастники в расправе над Андреевым, были
выпороты, крестьянам, дававшим неверные показания под нажимом помещика и
самих властей, сделали строгое внушение о необходимости впредь
"показывать истину". Оставалось еще изучить роль и поведение
местных чиновников, которые прямо искажали факты в пользу убийцы и
затягивали расследование. Исправника Маслова, уездного стряпчего
Яковлева и штаб-лекаря Шрейбера приговорили за их поступки, которые
"ясно обнаруживают, что чиновники сии, имея каковые-либо пристрастные
виды, наклонны были содействовать к закрытию настоящей причины смерти
Андреева... за таковые учиненные ими преступления лишить каждого из них
одного чина... и впредь ни к каким делам не употреблять". Однако губернатор Балашов, представляя
этот приговор на утверждение в Сенат, счел необходимым заметить, что
"действия преданных суждению чиновников относятся более к оплошности
их", и полагает и без того продолжительное пребывание под следствием
достаточным наказанием, и потому считает справедливым от дальнейших
взысканий их освободить, чтобы господа эти "впредь верностию службы
старались загладить вины свои, приобрести доброе о себе мнение и
обратить на себя внимание правительства". Сенат, выслушав мнение
губернатора, согласился с ним и утвердил его своим постановлением. Пособники убийцы остались безнаказанными
так же, как в большинстве случаев уходили от ответственности сами
убийцы. Противоречивое законодательство и неопределенная позиция
правительства создавали благоприятные условия для произвола. В.О.
Ключевский, рассматривая подобные случаи, недоуменно восклицал: "Каким
образом могли забыть закон XVII века?.. Помещик по Уложению, от
истязаний которого умрет крестьянин, сам подвергался смертной казни..." В
самом деле, в главе 21-й Соборного Уложения сказано: "А убьет сын
боярский чьего крестьянина... с умышления и сыщется про то допряма, что с
умышления убит, и такова убийцу казнить смертию". В судебной практике Российской империи
это было уже совершенно немыслимо. Типичной была ситуация, описанная А.
Кошелевым: "Жил у нас в уезде один старик, весьма богатый, бывший в
течение, кажется, 18 лет уездным предводителем дворянства и
прославившийся своим самоуправством и своим дурным обращением с
крестьянами и дворовыми людьми... Он засекал до смерти людей, зарывал их
у себя в саду и подавал объявления о том, что такой-то от него бежал.
Полиция, суд и уездный стряпчий у него в кабинете поканчивали все его
дела". В XIX веке основным наказанием, которому
подвергались жестокие помещики в том случае, если дело доходило до
рассмотрения Сената, было, кроме устного внушения о необходимости
человеколюбия, взятие имения в опеку. В этом случае владелец, сохраняя
право на получение дохода, отстранялся только от непосредственного
управления усадьбой и крестьянами, а вместо него назначался опекунский
совет. Не говоря о том, что, благодаря сочувственному отношению
опекунов, помещик часто не только продолжал жить в своей усадьбе, но и
распоряжался хозяйством и даже подвергал крестьян "взысканиям",
императорское правительство часто после непродолжительного времени опеки
милостиво возвращало имение в полную собственность владельца,
предоставляя ему все прежние права. Некоторые исследователи истории
крепостного права недоумевали от того, как хотя бы соображения
собственной выгоды не останавливали помещиков от жестоких расправ, в
результате которых их "имущество" -- крепостные крестьяне -- получали
увечья или гибли? Но также можно было задаваться вопросом о том, разве
не жаль им было тратить значительные средства на предметы роскоши или
развлечения, если вместо этого они могли с успехом пустить их в дело и
получить прибыль? Многие дворяне, чье нравственное чувство было
испорчено извращенными социальными отношениями, относились к своей
власти над чужими телами и жизнями как к дорогому удовольствию, за
которое готовы были не скупясь платить и даже временами рисковать.
Примечательно признание пьяного князя Гагарина над телом Андреева, что
убийство его отца обошлось помещику в 5000 рублей, а в этот раз ему не
жалко и всего состояния. Жестокие наказания и пытки становились
для многих душевладельцев настоящей психологической потребностью, а
чувство безнаказанности приводило порой к жутким эксцессам. Например, по
сообщению полицейского чиновника, одна помещица Минской губернии "в
припадке ярости допускала разные неистовства, как-то: кусала своих
людей, душила их руками, накладывала на шею железные цепи, поливала за
шею кипяток, принуждала есть дохлые пиявицы, жгла тело раскаленным
железом... сверх того одна из дворовых девушек, быв подвергаема
ежедневно наказанию розгами от 50 до 200 ударов, лишилась наконец жизни и
тело сей несчастной сокрыто было господами в леднике, где при помощи
кучера они разрубили оное топором на три части, потом ночью варили тело в
котле в продолжение трех часов для того, чтобы отдать на съедение
собакам и свиньям; и наконец, чтобы оставшиеся кости не могли послужить к
изобличению преступления, отнесли куски тела в лес, сожгли оные на
дровяном костре". Все описанное может навести на мысль,
что перед нами действия ненормальных, душевнобольных людей. Отчасти это и
так, пожалуй, но вот что писал о подобных случаях В.И. Семевский:
"Любопытно только, что и само помешательство принимает оригинальные
формы, смотря по тому или другому строю общества, в данном случае
основанном на рабстве. История крепостного права представляет весьма
важные данные для создания науки общественной патологии". Извращенные социальные отношения
отравляли государственную жизнь, больное общество портило людей здоровых
и окончательно губило уже зараженных. Больных оказывалось слишком
много, и самым страшным было то, что именно их образ поведения
становился нормой. Сельский священник описывает поступки другой "обыкновенной" помещицы: "На каждом шагу, каждую минуту она шипела,
щипала и рвала дворовых баб и девок. Иногда она разозлится, шлепнется на
стул, протянет ногу и кричит: "разувай, дай башмак, становись на
колена, заложи руки назад!" -- и начнет башмаком хлестать по лицу! Вид
крови приводил ее в совершенное бешенство: как только увидит, что из
носу, изо рта или ушей полила кровь, -- она вскочит и, уже без памяти,
рвет щеки и губы, и волосы; повалит и, как зверь, начнет и мять и рвать
все, что под ней: щиплет, хлещет, рвет, -- сама растреплется,
раскосматится, в возне изорвет все и на себе, у рта пена, слюни
брызжут, -- полнейшее бешенство. Оторвется уже только тогда, когда сама
выбьется совсем из сил и упадет на стул совсем обессилевши". По сообщению жандармского офицера,
тульский помещик Трубицын, "подозревая двух крестьян в незначительной
краже, вымогал сознание их сперва наказанием палкою, а потом вешанием их
на веревке, привязанной к указательным пальцам правых рук, и когда с
пальца срывалась кожа и мясо, то он приказывал таким же образом вешать
за левые руки"; помещица Нарышкина грозит выпороть плетьми все население
одной из своих вотчин, а генеральша графиня Толстая, рассердившись на
крестьян за то, что они посмели докучать ей своими просьбами, старшему
челобитчику от крестьянского общества приказывает обрить голову и
бороду, одеть на шею рогатку с железными шипами, "дабы ему не иметь
покою", по ее словам, и велит сослать в вечную работу на кирпичный
завод. При этом на остальных она топает в ярости ногами, бьет их палкой,
требует, "чтоб ее впредь никакими просьбами не утруждать", и, гоня их
вон, уже во след кричит в истерике: "Я вас вконец разорю!.." А в имении
Тарасенко-Отрешкова обыкновенно по зимам наказывали баб тем, что ставили
их в ряд и заставляли подбрасывать вверх лопатами снег против ветра,
причем, по описанию очевидца, "взвеваемый на ветер мелкий снег так
мучительно набивался веяльницам в уши, в глаза, в ноздри, в рот, что они
скорехонько без чувств падали на землю"... В отчаянии от немилосердного владычества
своих господ крестьяне пробовали обратиться к единственному человеку,
по крайней мере, уже по своему положению обязанному защищать
справедливость. Примечательно, что все крестьянские челобитные на
"высочайшее имя" составлены удивительно выразительным языком, что
объясняется, скорее, не столько литературными дарованиями жалобщиков,
сколько их страшным безвыходным состоянием рабства, в котором они
оказались, заставлявшего находить в свою защиту сильные слова и яркие
образы: "О, Всещедрый, земной Господи, Великий Государь Император и
защита своей монархии, защити и помилуй подданных своих десной своей
Царской рукою, аки Высший Создатель над бедными и разоренными от
ненавидящихся, старшинствующих разно помещиков над подданными Вашего
Императорского Величества!.." Государь не миловал и не защищал. В
редких случаях, как в вышеописанном происшествии с князем-убийцей
Гагариным, из столицы в губернию отправлялся чиновник по особым
поручениям или придворный флигель-адъютант с повелением "исследовать,
каким образом подобные жестокости могли быть неизвестны местному
уездному предводителю дворянства?" На это "высочайшее" недоумение от
имени крепостных крестьян отвечал императору Николай Тургенев: "На
защиту предводителей дворянства крестьяне, особенно в губерниях, мало
могут иметь надежды. Предводитель избирается дворянами, дворянам не
могут быть приятны жалобы на одного или нескольких членов их сословия...
Единому и Вездесущему Богу может крестьянин, в тайне сердца, приносить
жалобы на несправедливость людей. Защита человеческая имеет... свои
пределы, и сии пределы не могут заключать в себе прав таких людей,
которые никаких прав не имеют".
9 
Глава VII. Ах, ты барская душа! Али нет тебе суда?!
Хоть и биты были больно, Да погуляно довольно... Темный лес -- то наши вотчины, Тракт проезжий -- наша пашенка, Пашню пашем мы в глухую ночь, Собираем хлеб не сеямши, Не цепом молотим -- слегою По дворянским по головушкам... Из народных песен Неповиновение помещечьей власти, крестьянские восстания Создателем и последовательным
охранителем системы крепостного права в России была государственная
власть в лице верховных правителей и их ближайшего окружения, но еще
примечательнее, что эта же высшая власть сама признавала
несправедливость защищаемых ею порядков. Императрица Екатерина II в
конце 60-х годов XVIII столетия в одном из писем, адресованных
генерал-прокурору Сената князю А.А. Вяземскому, прямо называет
господство помещиков над крестьянами "несносным и жестоким игом". Спустя еще полвека шеф корпуса жандармов граф Бенкендорф в докладе на
имя Николая I писал, что "во всей России только народ-победитель,
русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т. д. -- свободны"!.. Но эти признания не имели за собой почти
никакого практического следствия для облегчения положения крепостных
людей, и тем приходилось самостоятельно искать пути к избавлению. Одним
их самых распространенных способов освободиться от "несносного ига" было
бегство. Трудно было отыскать имение, в котором не числились бы в бегах
хотя бы несколько крестьян, а из некоторых усадеб убегали едва ли не
поголовно. Чаще крестьяне собирались вместе по несколько семей из одной
или соседних деревень, забирали без остатка все имущество и уходили
прочь. Скрывались в лесах, избегали встречных, терпели всякую нужду, но
упорно пробивались к границам империи, чтобы в чужой стороне обрести
наконец свободу. Уходили куда глаза глядят, только бы подальше от
дворянского и полицейского ярма: на Дон, на Кавказ, на Урал и в Сибирь, в
приволжские леса и степи, в Новороссию, в Астрахань... Из центральных и
западных губерний помногу перебегали в Польшу. Иногда эти переселения
приобретали вид настоящих массовых миграций: так например, в 1766 году
из вотчины князей Трубецких в Петербургской губернии сбежали пять
семейств. Скоро они соединились с крестьянами помещика Ганнибала числом
более 350 человек и в таком составе вместе отправились в Польшу, гоня
перед собой скот и телеги со скарбом. По жалобам помещиков, из имений
только одной Смоленской губернии в польские пределы за несколько лет
ушло свыше 50 000 крестьян. Там выходцев из России охотно принимали.
По сравнению с притеснениями, которые они терпели на родине, в Польше,
по словам самих беглых, отягощений никаких для них нет: "знают только
заплатить за грунт и панскую работу, а в прочем-де во всем вольны", не
было ни рекрутских наборов, ни множества разорительных казенных
повинностей, ни помещичьего произвола. Ловить беглых оказывалось
затруднительно, что объяснялось значительной протяженностью границ и
малочисленностью пограничных застав -- они отстояли друг от друга на
много верст и насчитывали каждая всего по несколько солдат, часто весьма
немолодых ветеранов. Эти заставы не могли остановить передвижение
отчаявшихся людей, стремящихся к воле и прекрасно знающих, что в случае
возвращения обратно их ждет свирепая расправа. Вдобавок нередко
случалось, что и сами солдаты присоединялись к беглецам и уходили на
чужбину в поисках лучшей доли. И все же правительство, идя навстречу
жалобам помещиков, разорявшихся от постоянных крестьянских побегов,
попробовало воздействовать жесткими карательными средствами. Усилили
заставы, пойманных пороли кнутом за казенный счет, потом отправляли в
усадьбу к помещику, где их снова секли, сажали на цепь, отдавали в
рекруты -- но скоро убедились, что эти меры приводят только к тому, что
число побегов неуклонно возрастает с каждым годом и с каждым новым
суровым указом. Ожесточенность с обеих сторон приводила к
тому, что в приграничных местностях случались настоящие сражения.
Дворяне самостоятельно организовывали карательные экспедиции, которые
пересекали рубежи Польши и других стран, вылавливали беглецов и
возвращали их обратно. В свою очередь крестьяне, вырвавшись на свободу,
не считали тем самым свои счеты с бывшим отечеством и господами
поконченными -- собирали вооруженные отряды, возвращались обратно и
громили дворянские усадьбы, расположенные недалеко от границы. В.И.
Семевский ссылается, в частности, на свидетельство псковских помещиков,
жаловавшихся правительству, что под страхом смерти от беглых крестьян
вынуждены уезжать из собственных поместий. Одновременно с заботами о поимке беглых
правительство старалось пресекать недобросовестные поступки тех дворян,
кто принимали в свои владения чужих крестьян, желая таким легким
способом увеличить население собственных деревень. Закон грозил
укрывателям не только штрафом, но обязывал их выплатить законному
владельцу "пожилое" за каждый год укрывательства беглого. И тем не менее
некоторые предприимчивые господа умудрялись зарабатывать на беглых
"душах" большие деньги. Например, в 1763 году отставная
сержантша Бестужева уступила надворному советнику Игнатьеву целых две
семьи крестьян "с женами и с детьми и со внучаты и со всеми их
крестьянскими животы и с пожилыми и с заработными деньгами". Цена за все
была небольшой -- 150 рублей, -- потому что эти крестьяне со всем своим
добром и пожитками находились в бегах ко времени их продажи госпожой
уже 30 лет, с 1724 года. Игнатьева, как кажется, не смущал столь
внушительный срок, и он энергично взялся за возвращение себе
благоприобретенной собственности. Надворный советник нарядил следствие
и, к своему удовлетворению, скоро выяснил, что эти крестьяне со
значительно увеличившимися за истекшие десятилетия семьями проживают в
имении коллежского асессора некоего господина Мельницкого. Игнатьев
обратился в суд с требованием вернуть себе крестьян и взыскать в его
пользу "пожилого" за них в сумме 7375 рублей. Мельницкий таким оборотом
дела был крайне удивлен и раздражен, тем более что не считал себя
виновным, поскольку крестьян этих не только не думал укрывать, но,
похоже, и не знал о том, что с этой стороны может грозить какая-то
опасность, потому что они ему достались вместе с имением, которое он
купил у генерала Бутурлина. Со взаимными претензиями дело
тянулось еще 10 лет. Но Игнатьев был неутомим и наконец получил
вознаграждение за свое упорство. Суд обязал генерала выплатить Игнатьеву
с пожилое" за утаенных крепостных людей с 1724 по 1746 год -- время
продажи имения Мельницкому, а последний должен был расплатиться за
пользование чужим имуществом за период с 1746 года.) Побеги, при которых помещики в первую
очередь лишались самых энергичных работников, имели тяжелые последствия
для господского хозяйства, но положение усугублялось еще и тем, что
повинности убежавших ложились на плечи тех, кто оставался. Это тяжкое
бремя заставляло сниматься с мест и менее расторопных, тем более что их
обнадеживали удачные примеры односельчан. Государство же, в случае роста
недоимок, конфисковывало имения у помещиков. Для того чтобы избежать окончательного
разорения и вернуть крестьян, иные господа прибегали к самым неожиданным
и отчаянным средствам. Один помещик в "Петербургских ведомостях" дал
такое объявление для сведения своих беглых мужиков: "Коллежский советник
Удалов из покупного его нижегородского уезда села Фроловского бежавшим
дворовым людям и крестьянам от каких-либо несносных непорядков... через сие дает знать свое намерение в пользу их и свою,
чтоб они возвращались на прежнее свое жилище... он будет принимать их со
всяким к ним вспомоществованием... и содержаны будут впредь в добром
порядке, без отягощения, и тем были б неизменно уверены"... Императорское правительство,
разочаровавшись в возможности насильно вернуть беглых и приостановить
поток новых беглецов, также меняет тактику. Один за другим в начале 60-х
годов XVIII века выходят несколько указов, призывающих крестьян
возвратиться в "любезное отечество". Вернувшимся обещано было не только
полное прощение прежних вин, но зачисление в государственные крестьяне
и, кроме того, освобождение от любых податей и налогов в течение шести
лет. При этом выходило так, будто правительство поощряет и награждает
беглых, получалось, что бегать и не подчиняться помещикам -- выгодно. Во
избежание подобного толкования ограничили распространение обещанных
льгот теми, кто бежал не позднее определенного времени. Хотя
впоследствии и это ограничение фактически не соблюдали, приписывая в
казенное ведомство возвратившихся вне зависимости от времени бегства,
все равно, несмотря на вынужденную обстоятельствами готовность власти
идти на значительные уступки, желающих возвратиться было немного.
Собственные пережитые тяготы и печальный опыт предшествующих поколений
не давали бывшим крепостным, самостоятельно добившимся свободы,
оснований для того, чтобы верить самым соблазнительным обещаниям
правительства. Всплеск побегов приходился всегда на
время рекрутских наборов. От солдатчины бежали в леса и за границу, а
некоторые и вовсе предпочитали самоубийство 25-летней службе в
императорской армии, казавшейся страшнее каторги. Вообще самоубийства среди крепостных
людей не были очень редкими -- и в них, кроме стремления отчаявшихся
людей хотя бы ценой своей жизни избавиться от рабства, своего рода
бегства в небытие, отчетливо пролядывает и активное начало -- это было
одним из способов протеста против притеснений господ и насилия над
человеческой личностью. А. Кошелев рассказывает о случае, произошедшем с
одним помещиком, так жестоко притеснявшим своих крестьян, что, по словам
рассказчика, "житье людям было ужасное". Барина, которого к тому времени
разбил паралич, как-то зимой вез кучер в санях через лес. Вдруг он
остановил коня, слез с облучка и сказал насторожившемуся перепуганному
помещику, уже наслышанному об убийствах дворян их дворовыми: "Нет, ваше
высокоблагородие, жить у вас больше мне невмоготу". Затем снял вожжи,
сделал петлю и, перекинувши на толстый сук дерева, покончил свою жизнь.
Как Ч. был разбит параличом, то ему предстояло замерзнуть в лесу, но
лошадь сама привезла его домой. Ч. сам это рассказывал в доказательство
"глупости и грубости простого народа". Это происшествие удивительным образом
перекликается с отрывком из стихотворения Н. Некрасова. Там крепостной
человек, глубоко обиженный своим господином, также предпочитает
самоубийство расправе над барином: Стали лошадки -- и дальше ни шагу, Сосны стеной перед ними торчат. Яков, не глядя на барина бедного, Начал коней отпрягать, Верного Яшу, дрожащего, бледного, Начал помещик тогда умолять. Выслушал Яков посулы -- и грубо, Зло засмеялся: "Нашел душегуба! Стану я руки убийством марать, Нет, не тебе умирать!" Яков на сосну высокую прянул, Вожжи в вершине ее укрепил, Перекрестился, на солнышко глянул, Голову в петлю -- и ноги спустил!.. Экие страсти Господни! висит Яков над барином, мерно качается... В отказе от легкой расправы над
помещиком и самоубийстве на его глазах проявляется, конечно, не
"глупость и грубость" простого человека, а удивительное благородство и
чувство собственного достоинства, непонятное и недоступное его
господину. Дворянин использовал и наказывал крепостного крестьянина, как
рабочую скотину, не хотел знать и помнить, что тот -- человек, но сами
крепостные люди никогда не забывали об этом. Еще один характерный случай
из времен крепостного права, сохранившийся в рассказе современника, --
помещик приезжает на поле, как водится в сопровождении неотлучных
кучеров, и ему кажется, что сено не вовремя скошено. Призвает старосту,
тычет ему в лицо пучок травы: "Не коси траву рано, не коси!" Тотчас же
разложили старосту и -- в кнуты. Расходившийся господин велит доставить к
нему отца провинившегося старосты. Барин и ему по лицу травой: "Учи
сына, учи! Ведь трава после дождей еще бы росла!" И старика 80 лет так
же и здесь же -- в кнуты. Оставив исполосованных мужиков в поле, помещик
пообещал назавтра еще выпороть "для науки". "Но в эту ночь староста
удавился... У себя под сараем он повесился" -- коротко сообщает
рассказчик. Помещичий насильственный разврат с
подневольными женщинами был и распространен и обычен, и рабыни вынуждены
были терпеть насилие над собой, потому что деться им чаще всего было
просто некуда. Отец или муж заступался -- их пороли, ссылали в Сибирь,
продавали на сторону или забривали лбы в солдаты. Но и тогда многие не
мирились со своим положением. Крепостные крестьянки и дворовые девушки в
дворянских усадьбах нередко вешались и топились, чтобы избежать таким
образом домогательств помещика и защитить свою честь. Сельский священник
вспоминал: "Две девушки из прихода моего батюшки так-таки и отбились:
одна утопилась, а другую барин велел притащить к себе и своеручно избил
палкою. Несчастная почахла две недели и умерла". Чаще всего поводом для самоубийства было
отчаяние от невыносимых условий существования или страх перед
наказанием. Помещик Андрей Болотов, сам доводивший крестьян до
самоубийства, в своих "Записках" передает рассказ о соседе, который
отправил дворовую девушку в город учиться мастерству кружевницы. По ее
возвращении в усадьбу господин из жадности поручал ей столько работы,
что она не выдержала и сбежала обратно в Москву, к своей учительнице.
Там ее быстро нашли и вернули господину. Ее посадили на железную цепь и
снова завалили работой. Наконец по просьбе священника цепь сняли, но
17-летняя девушка, просиживавшая целые дни и ночи за плетением кружев,
не выдержала нагрузки и снова бежала. Ее снова разыскали, одели на ноги
кандалы, на шею -- рогатку и заставляли работать в таком положении. Доведенная до отчаяния девушка попыталась зарезаться, но только поранила
себя. Она прожила еще месяц, но кандалы с нее так и не были сняты по
распоряжению помещика до самой смерти. Болотов отмечает, что это
происшествие осталось без внимания властей, и господа не понесли
никакого наказания. Хроника самоубийств обыкновенно
лаконична: "Дворовая девка помещицы Житовой Марья Глебова, покушаясь на
свою жизнь, порезала себе ножницами шею; помещик Татаринов обращался с
людьми своими жестоко и одного из них избил до того, что тот зарезался;
вследствие дурного обращения с своею прислугою помещиков Щекутьевых
восьмилетняя девочка покусилась на самоубийство, бросившись в озеро..." Самоубийства крепостных детей от страха
перед господским наказанием происходили особенно часто. Детская психика
оказывалась беззащитной перед угрозой расправы за самый незначительный
проступок, тем более что вокруг было достаточно примеров того, как
обыкновенно происходили "взыскания" со взрослых. М.Е. Салтыков-Щедрин
описал один из таких случаев в своем рассказе "Миша и Ваня". Это история
двух мальчиков, которые, не дожидаясь утра, когда их ждет наказание от
жестокой госпожи, решают убить себя. Один из них настроен решительно,
другой немного робеет, хотя мысли о предстоящей экзекуции оказываются
страшнее самоубийства. Холодным-то ножом, чай, больно? -- спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза. Это только раз больно, а потом ничего! -- отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове. А помнишь, как повар Михей зарезался!
Тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! А как полыснул
ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то... Ну, что ж, что повар Михей! Михейка и
вышел дурак! Потом небось вылечился, а для чего вылечился? Все одно
наказали дурака, а мы уж так полыснем, чтоб не вылечиться!.." В основании этой истории заключено
действительное происшествие в имении помещика Вельяшева, о котором
Салтыков узнал в то время, как служил в должности вице-губернатора
Рязанской губернии. Подробное описание этого дела содержится среди
жандармских отчетов о событиях в России за 1859 год: "В Рязани два
крепостных мальчика помещика Вельяшева, братья Афанасьевы, покушаясь
зарезаться, нанесли себе раны, от которых один из них умер. Следствием
обнаружено, что означенные мальчики вынуждены были к такому поступку
жестоким обращением жены ротмистра Кислинской, которая, оставя мужа,
проживала с Вельяшевым и, подчинив его своему влиянию, подвергала людей
за маловажные упущения частым и строгим наказаниям и угрожал азасечь Афанасьевых. Кроме того, две ее женщины бежали, одна родила мертвого
младенца, а одна утопилась. При этом Кислинская, подозревая отца и дядю в
знании о побеге впоследствии утопившейся женщины, заставила Вельяшева
отдать их в военную службу, где оба они умерли". Салтыков, как высокопоставленное
официальное лицо, потребовал от губернского прокурора провести
тщательное расследование дела, особенно указывая при этом на то, что
попытка самоубийства детей произошла "от многократно повторявшихся
жестоких истязаний как со стороны владелицы их, так и со стороны г.
Вельяшева". Однако сам Салтыков был вскоре переведен из Рязани в
Тверскую губернию, и решение дела местными властями было немедленно
передано на усмотрение дворянства, которое должно было решить --
достаточно ли оснований для взятия имения Вельяшева и его сожительницы
Кислинской в опеку. Рязанское дворянство оправдало своих собратьев,
сославшись на недостаточность улик, подтверждающих их виновность в
смерти крепостных людей. Важно, что с точки зрения действовавших
законов Российской империи самоубийство крепостного человека было
преступлением, потому что являлось покушением на частную собственность
помещика, которому принадлежал крепостной. За это преступление было
предусмотрено наказание -- те из самоубийц, кому не удалось по
каким-либо причинам довести свое намерение до конца, подлежали порке и
возвращению в имение господина, причем власть не интересовало то
обстоятельство, что намерение покончить с собой явилось в них как раз от
жестокостей помещика, даже в тех случаях, когда эти жестокости были
официально признаны чрезмерными. Так, за жестокое обращение со своими
людьми имение рязанского дворянина Кайсарова было взято в опеку, но
стало известно при этом, что крестьянин Перфильев высказывал о своем
намерении убить себя. Однажды он даже якобы сказал: "ежели не будет
лучше, то удавлюсь". Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить
Перфильева в бунте против помещичьей власти и наказать его 15 ударами
батогов. Неоднократно битый и посаженный на цепь помещиком Немчиновым
крестьянин Яковлев в страхе перед очередным наказанием попытался
покончить с собой, три раза ударив себя ножом в шею, однако раны
оказались несмертельными. Суд приговорил его к 25 ударам плетью и ссылке
в Сибирь. Но здесь стало известно, что попытки самоубийств крепостных
людей случались в поместье Немчинова и раньше. При этом открылись такие
подробности жестокого управления усадьбой помещиком Немчиновым, что
губернатор был вынужден представить в Сенат предложение о взятии имения в
опеку. Но Яковлева все же отправили в Сибирь, хотя и милостиво избавив
от плетей "за предпринятое в стеснительном его положении самоубийство
уже не первым"... * * * Безвыходное положение крепостных людей,
оставшихся без всякой защиты государства перед проявлениями крайней
жестокости, или, говоря языком казенных документов того времени,
"неумеренной взыскательности" помещиков, приводило к последствиям,
которые тревожили правительство еще сильнее крестьянских побегов, и тем
более самоубийств. Покушения крестьян на убийство своих господ, грабежи и
поджоги усадеб были так часты, что создавали ощущение неутихающей
партизанской войны. Это и была настоящая война,
продолжавшаяся в России в течение всей эпохи существования крепостного
права. Один современник писал о положении в России, что "граждане одной
державы, как будто два иноплеменные народа, ведут между собою
беспрерывную брань", а полицейские донесения из губерний и уездов
напоминали собой фронтовые сводки о боевых потерях. Вот, например,
совершенно типичный отрывок из доклада жандармского офицера на
"высочайшее" имя за 1845 год: "В продолжение минувшего года: убито
крестьянами 8 помещиков и 9 управителей, безуспешных покушений к тому
обнаружено 12... Кроме того, в 11 имениях открыты зажигательства
крестьянами домов своих владельцев... Жестокости владельцев над своими
крестьянами обнаружены в 9 имениях; 24 помещика и 70 управителей уличены
в смертельном наказании крестьян. Число умерших оттого простирается до
80 человек обоего пола, исключая 9 малолетних и 34 мертворожденных
вследствие наказаний". За другие годы всегда то же самое, и обычная
запись звучит приблизительно так: "В минувшем... году лишены жизни
крестьянами своими помещики полтавской, смоленской, гродненской и
тверской губерний... в смертельном наказании крестьян замечено 16
владельцев и 59 управителей. От жестоких наказаний умерло крестьян
обоего пола 54, малолетних 5, рождено мертвых младенцев 17, доведено до
самоубийств 5 человек; всего 81 человек, менее против минувшего года 26
случаями..." В этой жутковатой статистике важно обратить внимание на слова -- обнаружено, замечено иуличено.
Дело в том, что в действительности подобных происшествий было намного
больше -- до сведения полиции далеко не всегда доходила информация о
совершенных убийствах, поджогах и покушениях, во многих случаях не
находилось достаточных улик для обвинения и признания обстоятельств
смерти насильственными, и дело оставляли "на волю Божию". Но, так или
иначе, ежегодно в стране гибло или получало увечья множество людей --
жертв необъявленной гражданской войны. Со времени правления Екатерины II
нападения на дворян становятся регулярными, а убийства совершаются с
особой жестокостью. Правительство получало тревожые сведения практически
из всех губерний -- перепуганное дворянство жаловалось на то, что не
чувствует себя в безопасности в собственных имениях, и предпочитало жить
в городах, под охраной солдатских гарнизонов. Депутат Уложенной
комиссии Похвиснев сообщал, что "уже многие помещики учинились
несчастною жертвою свирепости" от своих слуг, а суздальские дворяне,
также приводя факты "смертных убийств и мучительных поруганий" помещикам
и помещицам, настойчиво просили себе защиты. По сведениям, собранным графом Н.И.
Паниным, только за пять лет, с 1764 по 1769 год, и только в Московской
губернии нападения на господ были совершены в 27 имениях, в результате
чего погибли 30 дворян 21 мужчина и 9 женщин). И это не считая
нескольких неудачных покушений. Интерес Панина был вызван в первую
очередь тем, что в 1769 году крестьянами был убит его двоюродный брат,
генерал-аншеф Н. Леонтьев, состоявший также в родстве со многими
влиятельными людьми, близкими к императрице, такими как фельдмаршал
Румянцев и княгиня Е. Дашкова. Дворянство было озадачено смертью
Леонтьева, рассудив, что если такой знатный человек не безопасен от
холопского возмездия, то на что же надеяться обычным помещикам, тем
более что почти в то же самое время "благородное" общество было
потрясено очередным покушением. В Петербурге дворовые люди напали на
генеральшу Храповицкую, мать статс-секретаря императрицы А.
Храповицкого. Покушение произошло ночью в собственном доме госпожи. В
заговоре принимали участие 6 человек, среди них близкие Храповицкой
слуги -- две дворовые девушки, кучер, личный парикмахер. Сама генеральша
рассказывала, что в ночь на 1 мая ее внезапно разбудил шум в дверях.
При свете ночника она успела заметить только своего парикмахера, после
чего ее ударили по лицу, опрокинули на кровать и начали душить.
Храповицкая отчаянно сопротивлялась и успела закричать, позвать на
помощь. На крики госпожи поначалу никто не явился, но послышался
истеричный вопль одной из служанок, спавший дом начал оживать, и
нападавшие, испугавшись, выбежали вон. Вскоре их схватили и началось
следствие. Они чистосердечно сознались в намерении убить свою госпожу,
которая, по их словам "до своих крепостных людей весьма зла... завсегда
их безвинно бьет и морит голодом". Все обвиненные в покушении были
строго наказаны,[18] но выявленные следствием жестокие поступки генеральши заставили
Екатерину II распорядиться при этом о взятии имения Храповицкой в опеку. Случаи с гибелью Леонтьева и покушением
на убийство Храповицкой примечательны в превую очередь тем, что
доказывают крайнюю избирательность крестьянских расправ над помещиками.
Как правило, месть подневольных людей распространялась на тех господ,
кто особенно отличался своим суровым управлением при попустительстве и
бездействии властей. В частности, генерал Леонтьев был так жесток, что
крестьяне несколько раз наряжали ходоков с жалобами императрице на его
поступки. Жалобщиков неизменно пороли кнутом и отправляли обратно. Но
поведение генерала было столь очевидно несправедливо, что незадолго до
его гибели сам Н. Панин имел с ним разговор, настойчиво убеждая брата,
чтобы он "старался пользоваться правом господства, последуя
человеколюбию и принимая в рассуждение силы крестьянские"... Леонтьев не послушал предостережений и вскоре был убит у себя в усадьбе выстрелом через открытое окно. Случаи покушений множились год от года,
продолжаясь до самой отмены крепостного права. Вне зависимости от
времени, когда было совершено убийство, и его способов, причина их
всегда была одна и та же. По словам Заблоцкого-Десятовского, "чаще всего
крестьяне побуждаются к тому отчаянием, не видя ни в ком уже себе
защиты". Дворянин Кучин к своим крепостным "лих был и часто бивал".
Убить его согласились все крестьяне и дворовые, но выбрали для этого
дела несколько человек. Они ночью вошли к нему в спальню и стали душить
подушкой, держа за руки и за ноги. Кучин вырывался, просил пощады,
кричал: "или я вам не кормилец?", но не умолил своих карателей. Труп
бросили в реку. Помещик Краковецкий не давал прохода крестьянским девкам
и бабам, принуждая их к связи с собой, наказывал сопротивлявшихся. Одна
из девушек согласилась для видимости на приставания сластолюбивого
барина и назначила ему свидание на гумне, сговорившись предварительно с
подругами и кучером Краковецкого. Когда помещик пришел и расположился с
избранницей на сене, ее сообщники выскочили из укрытия, кучер нанес
Краковецкому удар по голове, а девушки веревкой удавили его, после чего
сбросили труп в канаву. Поручик Терский имел насильственную связь с
женой своего крестьянина Минаева. Приехав как-то пьяным из гостей,
Терский приказал женщине идти с ним на гумно, а она рассказала об этом
мужу. Тот пошел следом, напал неожиданно на барина и стал избивать его
палкой, а жена -- кулаками. Забили его до смерти и бросили тело под
мостом. По окончании следствия крестьянина приговорили к клеймению, 100
ударам плетей и каторге. Его жене назначили такое же наказание, но без
наложения клейм. В Костромской губернии дворовые и крестьяне
секунд-майора Витовтова ворвались ночью к нему в дом, били руками и
ногами, таскали за волосы, наконец ударили головой об пол. Витовтов был
при смерти и успел только причаститься, а убийцы бежали. В Шуйском уезде
Московской губернии крепостные Собакина самого помещика избили до
полусмерти, а его жену зарезали. Помещица Писарева застрелена из ружья в
окно, рязанский помещик Хлуденев задушен дворовыми на постели... Одним из частых способов убийства
помещиков было отравление ядом. Так, например, 70-летняя помещица Асеева
напилась чаю и поела каши с рыбой, причем жаловалась, будто на зубах
что-то скрипит. Вскоре после еды стала икать, началась рвота, и к вечеру
помещица умерла. При вскрытии в желудке обнаружили следы мышьяка, но
кто дал яд госпоже так и не выяснили, оставив несколько дворовых женщин
"в подозрении". В городской больнице умер помещик Гагин. Врач нашел при
обследовании трупа несомненные следы отравления, но откуда взялся яд и
кто подсыпал его Гагину, осталось неясным, хотя подозрение падало на
дворового человека, навещавшего барина незадолго до смерти. По
показаниям крестьянки Михайловой, подложившей мышьяку в суп своему
помещику, ее надоумила на это крепостная женщина помещицы Чанышевой,
Акулина Матвеева. Крестьянки собрались как-то вместе, и Михайлова стала
жаловаться на притеснения от своего господина. На что Матвеева будто бы
сказала: "Что вы, дураки, не окормите своего барина, я уже дала своей
барыне мышьяку в моченой бруснике... у нее зажгло сердце и умерла". Часто нападения на господ случались
спонтанно, как реакция на очередную жестокость господина. О помещике
Оренбургской губернии Габове в полицейском отчете указывалось, что он
совершенно неспособен к управлению крестьянами "по грубости своего
характера и по другим дурным качествам". Крестьянское терпение
кончилось, когда он однажды, во время полевых работ, ударил
несовершеннолетнего парня кулаком в лицо, и тут же получил от него удар
лопатой по голове. Коллежский регистратор Шапошников убит в драке с
собственными крестьянами, причем сообщалось при этом, что Шапошников
"проводил жизнь в разврате и беспрестанном пьянстве". Поведение госпожи
Вечесловой со своими людьми было признано, напротив, "не чрезмерно
строгим", но, как кажется, сами крепостные этой помещицы думали иначе.
Каким в действительности было обращение Вечесловой с крестьянами, можно
судить уже по тому, что к покушению на убийство их подтолкнул страх
предстоящего наказания за утерянную овцу. Они подговорили "казачка"
госпожи отворить ночью дверь спальни и стали душить ее подушкой. Но
помещица успела закричать, причем вместе с ней закричал и "казачок", тем
самым надеясь отвести от себя подозрение в соучастии, и крестьяне
вынуждены были бежать. Но Вечеслова все-таки приняла смерть от своего
слуги, а скорее -- от своего необузданного нрава. Как-то много времени
спустя после покушения она заехала на пчельник, где служил 70-летний
Андрей Васильев. Помещица, придравшись к беспорядку, взяла Васильева за
бороду и начала бить его наотмашь по лицу. В ответ на это оскорбленный
старик, сам не помнил как, нанес барыне удар по голове топором, который
держал в это время в руке. Дворянин Полубояринов подвергал крестьян
наказаниям, собственноручно избивал их, назначал в тяжелые работы.
Однажды в риге он ударил по своему обыкновению одного из работников, тот
неожиданно ответил ударом на удар, другие в то же мгновение пришли ему
на помощь, избили помещика и удавили железной цепью. Помещик Новиков
часто порол своих крепостных. В день своего убийства жестоко отпорол
плетью крестьянина Филимонова. Тот сговорился с приятелями, также давно
озлобленными на жестокого господина. Барина стали поджидать в конюшне.
Когда Новиков зашел туда, один из мужиков ударил его железным ломом по
виску, а Филимонов нанес удар топором в лоб. Ударив еще несколько раз
для верности, сбросили труп в колодец... Этот перечень практически неисчерпаем. Любопытный итог ему подвел в свое время князь Н. Волконский в статье,
написанной уже после крестьянской реформы. Опираясь на документы, а также
свои собственные данные, он утверждал, что "на каждого помещика хотя бы
раз в его жизни нападали крестьяне"! Виновных в покушении на жизнь
своих господ жестоко карали -- клеймили, пороли кнутом и ссылали в
каторжные работы. Но при этом трезвомыслящие люди и в правительстве, и в
самом полицейском аппарате отдавали себе отчет в том, что случаи
кровавых расправ будут продолжаться, потому что вызваны объективными
обстоятельствами. Вот оценка ситуации с убийствами помещиков, как она
изложена в докладе министру внутренних дел в 1850 году: "Исследования по
преступлениям этого рода показали, что причиною были сами помещики:
неприличный домашний быт помещика, грубый или разгульный образ жизни,
буйный в нетрезвом виде характер, распутное поведение, жестокое
обращение с крестьянами и особенно с их женами в видах прелюбодейной
страсти, наконец и самые прелюбодеяния были причиною того, что
крестьяне, отличавшиеся прежде безукоризненной нравственностью, наконец
посягали на жизнь своего господина"... Но изменение сложившегося положения было
возможно только при помощи ограничения помещичьей власти, с чем
большинство российских дворян было категорически не согласно. В то же
время угроза смерти от рук своих слуг заставляла дворян изобретать
способы подстраховать себя от таких случаев созданием подобия круговой
поруки среди крепостных. Так, сенат предложил императрице на утверждение
закон, по которому вновь вводимой смертной казни отмененной при
Елизавете Петровнеподлежали не только убийцы помещиков, но и все слуги
или крестьяне, виновные в недонесении о готовящемся преступлении или в
"необоронении" своих господ. Екатерина отвергла эту законодательную
инициативу, предложив сенаторам лучше задуматься об устранении причин
крестьянских расправ с помещиками, а не об ужесточении суровых законов,
"дабы не ускорить и без того довольно грозящую беду". Екатерина знала, что действительная
опасность правительству и всему крепостническому режиму заключалась не в
убийстве некоторых помещиков, а в общем неукротимом стремлении
крепостных крестьян к свободе. Расправы над господами происходили от
крайних нестерпимых притеснений и были, в общем, частностями на фоне
общего народного протеста против помещичьей власти как таковой.
Крестьяне желали свободно трудиться на собственной земле и настойчиво
требовали от правительства этой возможности. Особенно сильное волнение
среди крепостных началось после издания Петром III Манифеста "о
вольности дворянства", которым высшее сословие освобождалось от
обязательной службы и вообще всех обременительных обязанностей с
сохранением прежних и приобретением, сверх того, новых привилегий. В
народе стали распространяться слухи о том, что скоро последует новый
закон о свободе для помещичьих людей, хотя текст петровского манифеста
не оставлял для подобных надежд никаких оснований. В нем император
заявлял: "Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо
сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать". Но крепостные
не читали манифеста, а когда им объявляли его в церквях, то они
признавали его подложным. Крепостные были убеждены в том, что настоящий
закон о народной воле украден "барами". Последовавшая вскоре смерть
Петра III только усилила слухи о том, что "батюшка-царь" хотел народ
освободить и за это намерение был убит дворянами. * * * Ко времени вступления на престол
Екатерины II, почти за 10 лет до восстания Пугачева, в стране бунтовало
более ста пятидесяти тысяч помещичьих крестьян. Важно, что в большинстве
случаев эти волнения не имели на себе и следа разнузданного мятежа или
анархии. Крестьяне вели себя очень сдержанно, но решительно, с полным
осознанием своей правоты. Как правило, "бунт" заключался в том, что все
население поместья отказывалось повиноваться прежнему господину. В знак
верности друг другу и решимости бороться до конца крестьяне целовали
землю и не выходили на господские работы. Когда в усадьбу приезжали
представители власти, иногда в сопровождении солдат, крестьяне отвечали,
что против государя не бунтуют, но помещику повиноваться не станут, и
что будут дожидаться из Петербурга известия о воле. Тогда в усадьбу
направляли военную команду, силой заставляя крестьян подчиниться и тем
вынуждая их к вооруженному сопротивлению. Значительные волнения крепостных людей
произошли в тверских имениях помещиков Татищева и Хлопова, начавшиеся
сразу после объявления манифеста "о вольности дворянской". В имения была
направлена большая воинская команда с 4-мя пушками и в помощь к ней еще
и кирасирский полк. Не дрогнув перед такой грозной силой, крестьяне
отказались сдаться, называя себя вольными. В ответ на угрозы они
разрушили господские дома, сломали или сожгли хозяйственные постройки, а
помещикам послали сказать, "чтобы они к ним больше не ездили". Началось
ожесточенное сражение, с ранеными и убитыми с обеих сторон, причем
мятежникам удалось ранить офицера и захватить в плен 64 солдата.
Одновременно вспыхнули восстания крестьян в нескольких губерниях.
Повсеместно расправляясь с приказчиками и управляющими, слали
челобитчиков в столицу с просьбой о зачислении в казенное ведомство. Но
правительство отвечало спешной отправкой войск в мятежные уезды. В
имении князей Долгоруковых против карательного отряда выступило 2000
крестьян. Они были практически безоружны, но отчаянно защищались, бросая
в солдат камнями и поленьями. После нескольких ураганных залпов на
земле остались лежать десятки убитых. Остальных ловили и после жестокой и
продолжительной экзекуции брали подписку в повиновении помещикам. В 1767 году крестьяне братьев Олсуфьевых
воспользовались проездом императрицы Еатерины, путешествовавшей по
Волге, и подали ей челобитную на своих господ, где перечисляли все
чрезвычайные поборы, притеснения и жестокости, которыми обременяли их
помещики. Екатерина велела передать жалобщикам, чтобы они возвращались
обратно в имение и впредь беспрекословно слушались своих господ. Но
поскольку помещики управляли своими "подданными" с прежней лютостью,
крестьяне отказались выполнять господские работы и отправили новую
делегацию в столицу с просьбой к правительнице заступиться и
восстановить справедливость. В ответ из столицы прислали пехотный полк,
который арестовал и пересек около 130 человек, а остальных привели к
покорности. В Воронежской губернии крестьяне
отказались подчиняться помещику Шепелеву, требуя перевода в
государственное ведомство. В распоряжении уездных властей было всего 22
солдата, которых немедленно и отправили на подавление бунта. Но в
усадьбу на помощь шепелевским крепостным сошлись крестьяне окрестных
сел, и солдат встретила толпа без малого в тысячу человек -- мужики и
бабы с кольями, косами и цепами. Они заявили, что помещику не
принадлежат, что к государыне уже отправлена челобитная, и они со дня на
день ждут грамоты с ее собственноручной подписью о том, что им за
помещиком не быть. Военная команда ретировалась, и только спустя долгое
время губернатору удалось отправить на усмирение волнения два гусарских
эскадрона. Отряд окружил крестьян, собравшихся на господском дворе. Они,
как и прежде, отказывались признать над собой власть Шепелева и
требовали императорского указа о вольности, говоря при этом, что солдаты
посланы не губернатором, а подкуплены Шепелевым. Командир для острастки
приказал выстрелить в воздух, но это только раззадорило крестьян, и они
с криками напали на солдат. Те стали стрелять на поражение, среди
крестьян было много раненых и убитых, но они продолжали сражаться
практически безоружными и едва не заставили врага отступить. Но гусары
подожгли несколько домов, и когда люди увидели, что село горит, --
разбежались к своим избам спасать остатки имущества. По ним снова
открыли стрельбу, арестовали и посадили под замок несколько сотен
человек, принудив наконец всех жителей изъявить покорность помещику. Не всегда столкновение с
правительственными военными отрядами заканчивалось поражением для
крестьян. После смерти помещика князя Н. Шаховского его сестра, поручица
Наталья Пассек, получила в наследство несколько сел, в которых
крестьяне при вводе наследницы во владение имениями возмутились, ни ее,
ни ее управителя не пустили, объявили о своем намерении перейти в
дворцовое ведомство, о чем с челобитной отправили посланцев в столицу.
Отправленных для наведения порядка солдат под командованием капитана
Балашова встретила толпа крестьян числом не менее 500 человек,
вооруженных дубинами, косами и даже ружьями. В ответ на требование
подчиниться собравшиеся потребовали императорского указа, на что один из
офицеров, погрозив им шпагой, крикнул: "Вот мы вам дадим указ!", и
солдаты по приказу командира начали стрелять на поражение. Крестьяне не
растерялись и напали на противника, ранили более 30 солдат, и в том
числе Балашова, который умер через три часа после схватки, а его отряд
обратился в бегство. Дело это окончилось для крестьян
тем более благополучно, что Сенат признал неправомерным направление
военной экспедиции в усадьбу в то время, как поручица Пассек не окончила
тяжбу о наследстве со своей сестрой, генеральшей Карабановой, и,
значит, крестьяне еще не были признаны ее собственностью. Впоследствии,
конечно, мятежникам все же пришлось подчиниться, но, благодаря такому
неожиданному решению Сената, вооруженное сопротивление правительственным
войскам и убийство офицера прошло для них безнаказанным, что делает это
происшествие едва ли не единственным исключением за всю историю.) Но насилием и карательными мерами
невозможно было восстановить порядок в государстве, в котором
большинство народа находилось в рабстве. Что могли сделать пушки, когда
сама императрица Екатерина II, говоря о положении крепостных крестьян,
однажды откровенно признала, что они составляют собой "несчастный класс,
которому нельзя разбить свои цепи без преступления". Здесь взгляды
правительницы удивительным образом совпали с оценкой Радищева, писавшего
в своей запрещенной книге о том, что народу "свободы ожидать должно от
самой тяжести порабощения", когда переполнившаяся чаша народного
терпения приведет ко всеобщему восстанию. Удивительно, что в отечественной
историографии и популярной литературе при этом утвердилось отношение к
народным протестным движениям вообще и особенно к крестьянской войне под
руководством Емельяна Пугачева, основанное на известном высказывании А.
Пушкина о "бессмысленном и беспощадном" бунте. Крестьянские восстания
часто были беспощадными, но не бессмысленными. Они были вызваны
стремлением порабощенных и сведенных на положение рабочего скота людей к
личной свободе и хозяйственной независимости. За этими бунтами стояло,
наконец, простое чувство самосохранения, потому что без яростного
сопротивления своим господам крепостным просто невозможно было бы
выжить. Бунты, восстания и убийства помещиков на время приостанавливали
особенно жестокие проявления помещичьей власти, напоминали правительству
о необходимости обратить внимание на нужды порабощенного населения. А.С. Пушкин, утверждая бессмысленность народного восстания, знал, что
братья его деда, помещики Ганнибалы, собственноручно запарывали своих
крепостных людей до того, что тех замертво уносили завернутыми в
окровавленные простыни. Преступления и примеры бесчеловечной жестокости
были нормой российской крепостной действительности. В условиях
жесточайшей и вопиющей социальной несправедливости маленькие, локальные
крестьянские войны не прекращались никогда, подготавливая войну большую,
полномасштабную и непримиримую, какой и стала "пугачевщина". Ее причины
точнее всего выразил не поэт Пушкин, а генерал-аншеф Бибиков,
отправленный императрицей Екатериной на борьбу с восстанием. Вполне
оценив всю серьезность положения и угрозу существующему строю, Бибиков
сказал: "Не Пугачев важен, важно всеобщее негодование!" Там, где проходили войска Пугачева или
только слышно становилось об их приближении, крепостные крестьяне
толпами валили навстречу, а господа бежали в противоположном
направлении. Настроение и надежды первых выражались повсеместно такими
словами: "Коли-б нам Бог дал хотя один год на воле пожить: теперь все мы
помучены". А. Болотов из противоположного лагеря описывал панику среди
дворянства: "Мы все удостоверены были, что вся подлость и чернь, а
особливо все холопство и наши слуги, когда не вьявь, так в тайне
сердцами своими были злодею сему преданы, и в сердцах своих вообще все
бунтовали..." Но пугачевское восстание было начато не
крепостными людьми, и не они одни только составляли ряды крестьянской
армии. Там сошлись вместе все униженные и недовольные существовавшим
государственным строем -- инородцы, казаки, помещичьи и заводские
крестьяне, староверы. Известно, что в организации самого восстания
значительная роль принадлежала старообрядцам, в их скитах нашел убежище
беглый казак Пугачев, оттуда и при их поддержке он начал свое
продвижение. Это не было случайным. Нельзя забывать, что после церковной
реформы XVII века русское православие оказалось расколото, и тех, кто
не принял новые обряды и не признал официальную "никонианскую" церковь,
насчитывались в стране миллионы. Государственная власть их неутомимо
преследовала: конец XVII и 1-я половина XVIII столетия в русской
церковной истории полны беспримерными гонениями за исповедание
древлеправославия, пытками и казнями старообрядцев, превосходящими по
жестокости примеры из практики западной инквизиции. В этой крестьянской войне выплеснулось
все негодование, накопившееся более чем за столетие церковных и
социальных реформ, в результате которых большинство народа оказалось не
просто ущемлено, но совершенно лишено каких бы то ни было прав.
Негодование против власти, насаждающей иноземные обычаи и одежду, и
гонящей под страхом уголовного наказания все национальное и
традиционное, негодование против дворян, не желающих замечать в своих
рабах человеческий облик, негодование против господствующей церкви,
служители которой не произнесли ни одного слова в защиту обиженных и
гонимых и храмы которой использовались в первую очередь не для
богослужений, а как места, где зачитывались очередные притеснительные
правительственные постановления и указы. Появление Пугачева показалось чудом,
долгожданным избавлением от власти "свирепых волков и немилостивых
пилатов", как именовали крепостные крестьяне своих господ в челобитных.
Было от чего почувствовать радость. В.И. Семевский очень точно назвал
пугачевские манифесты к народу "жалованной грамотой всему крестьянскому
люду". По его определению, "это хартия, на основании которой предстояло
создать новое мужицкое царство". Вот текст одного из обращений
"императора Петра Феодоровича" к народу: "Жалуем сим именным указом с
монаршим и отеческим нашим милосердием всех находившихся прежде в
крестьянстве и в подданстве помещиков быть верноподданными рабами
собственно нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою,
головами и бородами, вольностию и свободою вечно казаками... владением
землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и солеными
озерами без покупки и без оброку... и желаем вам спасения душ и
спокойной в свете жизни, для которой вы вкусили и претерпели от
прописанных злодеев дворян странствие и немалые бедства". Самих дворян, "возмутителей империи и
разорителей крестьян", предписывалось "ловить, казнить и вешать и
поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства,
чинили с крестьянами". Приказ самозваного государя выполнялся со всей
возможной старательностью. По данным правительства, собранным после
подавления восстания, всего за время крестьянской войны погибло
насильственной смертью дворян 1572 человека, включая детей, мужчин и
женщин. Эта цифра оказывается тем более значительной, что включает в
себя жертвы среди помещичьего сословия только на ограниченной территории
тех областей, где действовали пугачевцы. Николай Тургенев, отмечая, что
многие события российского прошлого представлены потомкам "не в
настоящем виде", указывал и на причину этого: "сие происходит только от
того, что историю пишут не крестьяне, а помещики". Действительно, во
многом благодаря этому обстоятельству жестокие раправы пугачевцев над
дворянами остались навсегда мрачным пятном в памяти последующих
поколений, а жестокости самих помещиков и несправедливость всего
государственного строя в целом, вызвавшие крестьянское возмущение,
отошли на задний план. Так родился помещичий миф о свирепости и
природной дикости простого народа. В большинстве случаев в казнях над
господами крепостные люди следовали ветхозаветному принципу равного и
справедливого возмездия: "око за око". Одна помещица прославилась не
только жестокостью, но и жадностью, не давая своим дворовым соли в пищу. Когда ее привели на расправу, то присудили к сечению кнутом, а в
промежутках между сериями ударов окровавленную спину посыпали солью,
приговаривая: "просаливай ее, просаливай!" Другая дворянка приказала
заморить голодом ребенка кормилицы своего сына, чтобы, как она говорила,
не делить молоко с "хамовым отродьем". Ей придумали такую казнь:
разрезали живот и вложили внутрь еще живого ее ребенка. Способы казней были разнообразны: дворян
вешали, расстреливали, топили. В некоторых случаях расправы отличались
жестокой изобретательностью: сжигали на медленном огне, стреляли снизу
вверх так, чтобы пуля пробила и разорвала все внутренности, помещали под
доски на землю, кладя сверху тяжести и так постепенно раздавливая
насмерть. Насиловали и превращали в наложниц дворянских жен и дочерей. Но среди кровавых событий крестьянской
войны отчетливо проявилось очень важное обстоятельство: вооруженное
выступление было направлено не против государственности, а исключительно
против конкретных лиц и режима, доказавших свою враждебность простому
народу. Это был не анархический бунт, а сознательное восстание в защиту
своих гражданских прав и справедливого государственного устройства.
Заблоцкий-Десятовский писал: "Сила понятия о правительстве весьма
замечательна как в помещичьих крестьянах, так и в государственных; если
случаются неповиновения, или даже оскорбления правительственных властей,
то это всегда относится собственно к лицам; все казенное почитается ими
неприкосновенным". Примечательно, что самовольных расправ с
помещиками во время крестьянской войны было не так много. Выполняя
повеление пугачевского манифеста, крепостные добросовестно вылавливали
своих и чужих господ, скрывавшихся по лесам, и, как государственных
преступников, виновных в заговоре и враждебных намерениях против
"государя Петра Феодоровича", доставляли на суд "императорских" властей в
места, где располагалась казачья администрация. Известны случаи, когда
крестьяне выступали даже просителями в защиту своих помещиков, если те
были к ним милостивы и не "взыскательны", но важно, что делали они это,
все же предварительно арестовав господ и представив их "властям"! Подавление восстания и расправы с его
участниками были проведены правительственными войсками с исключительной
жестокостью. Сколько погибло, было расстреляно, повешено и замучено
крестьян, а также крестьянских детей и женщин -- никто не считал, и
сосчитать все жертвы вряд ли было возможно. В канавах вдоль дорог
валялись трупы убитых, у деревенских околиц на виселицах раскачивались
тела повешенных, и под ними устраивали показательные экзекуции, на
которых секли плетьми все население от мала до велика, и свежие братские
могилы полнились телами запоротых насмерть. Живым рвали ноздри, резали
уши, языки, клеймили лбы, отправляли на каторгу. В следующие два десятилетия число
крестьянских выступлений значительно уменьшается, хотя отдельные
восстания против помещичьей власти происходят время от времени, и каждое
такое происшествие, иногда незначительное возмущение крепостных людей в
той или иной усадьбе, поднимало панику едва ли не во всей губернии --
чудился призрак новой пугачевщины. Под Вологдой однажды появилась шайка
разбойников, пограбивших несколько имений, главарь которой заявлял, что
они хотят сделать то же, что и Пугачев. Услышав об этом, губернатор отправил нарочного в Петербург, требуя срочно прислать
регулярные войска с артиллерией, на что императрица, не терявшая никогда
самообладания, иронично заметила: "Видно, что у страха глаза велики, и
что гора мышь родить может". Но разбойничьи ватаги, в которые
собирались беглые крепостные и дезертиры, все же представляли собой
немалую угрозу, особенно для усадеб небогатых помещиков. Кроме того,
часто крестьяне сговаривались с "лихими людьми" и помогали им ограбить
своих господ, сами оставаясь при этом безнаказанными, потому что всю
вину за нападение, а часто и убийство владельцев сваливали на
разбойников. Не были в безопасности и крупные имения, охраняемые порой
специальным штатом вооруженной дворни. Тогда разворачивались целые
сражения, с осадой поместья, вылазками осажденных и штурмом укрепленного
барского дома. Путешествие по территории уезда также было сопряжено с
опасностью разбойного нападения. Граф Н. Толстой в своих
воспоминаниях выразительно описал, какими предосторожностями обставлялся
обычный проезд дворянского обоза через муромские леса в 1-й четверти
XIX столетия: ""Распоряжения были сделаны следующие: ружья были
заряжены, кроме того, все мужчины обвешались саблями, шпагами и кто что
добыл; все медные тазы и лоханки были вытащены и всем горничным и сенным
девушкам вместе с парнями велено было петь идучи огромной толпой около
тех экипажей, в которых сидели бара; а во время припева, обычного в
хоровых русских песнях, били железными сковородками в тазы... но если б
действительно случились разбойники, то эта наружная храбрость их не
надула бы, ибо я помню, как один молодой человек вздумал пошутить, с
разрешения дам, и неожиданно выстрелил невдалеке от дороги: тут все
девки, побросав тазы и лохани, подняли такой визг, как бы всех их резали
разом, и рассовались куда какая попала; а мужчины перебежали на
противную сторону... и все спрятались за каретами, лошади перепутались в
брошенных вожжах, так как ни один форейтор не усидел на подседельной...
Вот еще 40 с небольшим лет назад какой страх наводили леса муромские
середь белого дня... теперь представьте, что можно было ожидать в лесах
этих 70 и 80 лет назад... в то время въезжали в них с молебном и
выезжали тоже"...) Очередной сильный всплеск крестьянских
восстаний начинается со вступлением на престол Павла I. Новый император
распорядился привести к присяге всех жителей государства, и в том числе
тех, кто принадлежал помещикам. Крепостным людям, лишенным права присяги
самодержцам со времени правления Елизаветы, этот приказ показался если
не манифестом о вольности, то, по крайней мере, предвещающим скорое
освобождение. Вновь поползли слухи о том, что помещики утаивают царский
указ об отмене рабства, начались случаи неповиновения господам,
вооруженное сопротивление воинским командам, присланным для подавления
волнений. Павел Петрович, конечно, не только не
помышлял об освобождении крепостных, но искренне считал, что им живется
лучше под опекой помещиков. За короткое время своего правления он успел
раздать в частную собственность около 600 тысяч людей, при этом выделив
для обеспечения нужд императорской семьи и всей династии 3 000 000 так
называемых удельных крестьян. При Павле потеряли личную свободу жители
областей Крыма и крестьянское население на Дону, отданное в распоряжение
казачьей старшины. Это вызвало яростное противодействие --
восстали с оружием в руках десятки тысяч человек. Сопротивление задавили
быстро и жестоко. Раздраженный император распорядился хоронить трупы
убитых крестьян, как собак, без выполнения христианских обрядов. Над
захоронениями вместо крестов ставили столб с надписью: "Тут лежат
преступники против Бога, государя и помещика, справедливо наказанные
огнем и мечом по закону Божию и государеву". * * * Поражение в войне с Наполеоном в 1807
году нашло живой отклик в российском обществе. В то время как сердца
молодых офицеров, по словам Дениса Давыдова, "горели негодованием" от
вынужденного замирения с противником, правительство получало тревожные
сообщения о настроениях крепостных людей. В их сердцах успех
французского императора оживил, как оказалось, надежды на близкое
освобождение. Среди простонародья велись разговоры о том, что, случись
новая война с Наполеоном, он разгромит армию Александра и освободит
крепостных людей. После дарования Наполеоном конституции герцогству
Варшавскому и отмены там крепостного права эти разговоры вспыхнули с
новой силой. Дворовый человек помещика Демидова писал своему отцу,
сосланному в Сибирь за неповиновение господину, что скоро, "кажется, у
нас, в России, будет вся несправедливость опровергнута". Поймали в
Петербурге крепостного крестьянина Корнилова, который говорил в лавке
слушателям: "Бунапарте писал к государю, чтоб если он желает иметь мир,
то освободил бы всех крепостных людей и чтоб крепостных не было, в
противном случае война будет всегда". На допросе Корнилов признался, что
слышал это в разговоре троих крепостных художников друг с другом, будто
"француз хочет взять Россию и сделать всех вольными".[19]
19 Когда императору Александру доложили об
этом случае, он распорядился предать Корнилова суду, поскольку он
"оказывается виновным в том, что любил слушать и рассказывать пустые и
глупые новости, говорил слова непристойные и дерзкие, был излишне
любопытен, хотел знать, что пишут в газетах"...
Таких толков и записок выявилось
множество. Сообщения шпионов Наполеона вполне подтверждали пораженческие
настроения простого народа. Один из них писал в Париж, что русские
крестьяне "будут очень расположены встать на сторону победоносной
французской армии, потому что они только и мечтают о свободе и слишком
хорошо познали свое рабство, которое очень жестоко". Доктор Миливье,
более двадцати лет проживший в России, с уверенностью сообщал Наполеону о
том, что стоит только его войскам пересечь границу, крестьяне восстанут
против господ и подарят ему империю Александра. Губернаторы отправляли в Петербург
отчеты об участившихся случаях неповиновения крепостных людей помещикам.
Граф Федор Ростопчин, занимавшийся организацией земского ополчения на
случай новой войны, прямо доносил императору Александру Павловичу, что
возлагает мало надежд на стойкость рядовых ополченцев. По его словам,
достаточно будет Наполеону войти в Россию, и тогда "толк о мнимой
вольности подымет народ на приобретение оной истреблением дворянства,
что есть во всех бунтах и возмущениях единая цель черни". Наполеон действительно рассматривал
возможность провозгласить свободу крепостным крестьянам при вторжении в
Россию. Его агенты были заняты даже розысками уцелевших манифестов
Емельяна Пугачева, чтобы заимствовать из них стиль обращения к русскому
народу. Насколько эти намерения казались опасными для существовавшего в
стране режима, можно судить по испуганному признанию Н.Н. Раевского: "Я
боюсь... чтобы не дал Наполеон вольности народу", -- признавался в одном
из своих писем бесстрашный генерал, будущий герой войны 1812 года... Трудно понять, что в конце концов
заставило французского императора отказаться от своего намерения.
Возможно, из излишней самоуверенности он недооценил стойкости противника
и не желал в глазах современников и потомков делить славу победы,
казавшейся и без того несомненной, с "чернью". Как бы то ни было, но
французские войска вступили на территорию России, а манифеста об
освобождении крепостных так и не появилось. Однако волнения крестьян от
этого не уменьшились. Агенты полиции, внедренные повсюду, с особой
тщательностью прислушивались к разговорам на улицах, в трактирах и
шинках. По их донесениям в народе толковали: "Французы скоро Москву
возьмут -- будем все вольные! Дай Бог, нам тогда лучше будет!" Незадолго до вторжения наполеоновской
армии российское правительство было озабочено подготовкой мер
безопасности для предотвращения народных восстаний в тылу. В каждую
губернию были введены карательные военные экспедиции, расположенные так,
чтобы иметь возможность действовать сообща при возникновении крупных
мятежей. Но эти приготовления оказались почти бесполезны. При известии о
приближении французов вооруженные восстания начались в западных
губерниях и вскоре перекинулись на центральные области. Помещики в
страхе за свою жизнь бежали в города, но даже под защитой военных
гарнизонов многие не могли чувствовать себя спокойно -- не доверяли
собственным дворовым, спали с оружием, не гася огня. Крепостные жгли и грабили помещичьи
усадьбы, вступали в перестрелки с правительственными отрядами. Витебский
губернатор доносил в Комитет министров, что местные помещики "робеют и
не почитают себя в безопасности" и что "буйство до того простирается,
что крестьяне стреляли по драгунам и ранили многих". Губернатор требовал
военной помощи, но того же просили из других мест. Бунтовали и в
Московской губернии. В имениях князя Шаховского и действительного
статского советника Алябьева крестьяне "вышли из повиновения, говоря, что они ныне французские". Из
Смоленской, Тверской, Новгородской губерний также сообщали, что там
крестьяне "возмечтали, что они принадлежать могут французам навсегда". Казалось, повторяются события
пугачевщины. Важно, что и в этот раз многие крепостные крестьяне были
чужды анархических настроений, избегали самовольных расправ. Французы
были чрезвычайно удивлены тем, что русские мужики в их лагерь начали
доставлять выловленных по лесам дворян, офицеров и предводителей
ополчений. Как ранее в казаках Пугачева, крестьяне видели теперь в
наполеоновской администрации новую государственную власть, призванную
свергнуть прежний несправедливый социальный порядок, и предавали ее
правосудию тех, кто являлся, по их мнению, преступником -- собственных и
чужих господ. Крестьянское движение не было единым, в
это время так и не появилось того, кто смог бы объединить протестные
настроения. Кроме того, враждебное отношение французов, грабежи и
оскорбления национальных и религиозных чувств очень скоро вызвали
перемену настроений в тех, кто стремился добиться свободы с помощью
наполеоновских солдат. Начиная партизанскую войну против иноземных
захватчиков, многие надеялись, что участие в военных действиях и победа
над врагом принесут им освобождение от власти помещиков из рук
собственного правительства. Эти надежды в очередной раз не сбылись. Победоносное окончание Отечественной войны обернулось для крепостных крестьян ужесточением господской
власти и произвола. Дворяне старались вознаградить себя за прошлые страх
и унижение, и телесные наказания приобрели столь широкое
распространение, что вынудили императора обратиться к помещикам с
увещеванием быть снисходительнее ради великой общегосударственной
радости. Необходимость восстановления разрушенного хозяйства также легла
на плечи крепостных. В то же время правительство, помня о недавних
волнениях, увеличило число карательных воинских команд в губерниях и
уездах. Вернувшись из военных походов домой и
обнаружив, что они, как было сказано в императорском манифесте,
"обращены совершенно в первобытное состояние", иными словами, в прежнее
бесправное положение, крестьяне снова начинают отчаянную борьбу за
свободу. * * * С 1817 года число восстаний крепостных
людей постоянно растет. Только за 1800-1825 годы, по далеко не полным
данным, известно более 1500 случаев открытого неповиновения помещикам,
при этом общая цифра народных волнений с начала XIX столетия и до
времени так называемой "крестьянской реформы" в несколько раз выше, и в
них принимали участие сотни тысяч человек. Кроме бунтов помещичьих
крестьян вооруженное столкновение с правительственными войсками
происходило в военных поселениях в 1817-1819 годах, а в 30-е годы
восстания распространились по всему Поволжью. Впрочем, сопротивление произволу господ
далеко не всегда носило вооруженный характер. Многие случаи
противостояния крепостных со своими помещиками служат свидетельством
того, что именно крестьяне выступают стороной, ищущей законного решения
конфликта, всеми силами стараясь избежать открытого столкновения, тем
более кровопролития, проявляют твердую веру в справедливое вмешательство
государственной власти, в то время как помещики часто позволяют себе
крайне агрессивные поступки, тем самым вынуждая и крестьян, наконец, к
проявлению насилия. Ярким примером этого может служить дело о
неповиновении крепостных в усадьбе господ Ханыковых Рязанской губернии в
1832 году, изложенное А. Повалишиным и приводимое здесь в сокращении:
"Умалишенному помещику Гурьеву принадлежало имение в Сапожковском уезде.
Оно было в опеке и опекунами состояли родственники Гурьева -- Ханыковы,
сделавшееся после смерти владельца наследниками. Против их
наследственных прав был заявлен другими родственниками, Гурьевыми, спор,
и дело не было еще окончательно решено в то время, когда в имении
Ханыковых произошел бунт... Крестьяне... жаловались на излишние
поборы... на обременение подводами, на то, что подводы берутся не в
очередь, отсылаются далеко, в рабочую пору, часто портят лошадей... что
помещик за разрешение обвенчаться спрашивал с крестьян денег... что
самовольно продал принадлежавшую крестьянину избу, что отдал сына без
очереди в рекруты... еще что женщин склонял к прелюбодеянию, а за отказ
бил по щекам... Более других был недоволен крестьянин Иван Бабаев,
который и вел по этому предмету переговоры с обществом, что не худо было
бы заискать у другого наследника Гурьева -- может быть, станет жить
легче. Об этих переговорах Ханыковы несомненно знали. Раз при
предъявлении какого-то требования Ханыков пригрозил Бабаеву побоями, на
что последний отвечал, что еще неизвестно, принадлежит ли он ему, ведь
идет спорное дело, до сих пор не решенное, а потому в настоящее время
он, Бабаев, не принадлежит ни тому, ни другому наследнику. Ханыков
ударил Бабаева по лицу, разбил обе челюсти, а затем приказал высечь его
батожьем. От такого наказания Бабаев долго болел, а по выздоровлении
узнал, что Ханыковы за это время наказывали и других крестьян, отчего
крестьяне пришли в робость и стали просить его сходить в Петербург к
наследнику Гурьеву, у которого и просить защиты... Бабаев отправился к
Гурьеву, но последний не мог ничего сделать, объяснив, что дело о
наследстве еще не решено, а потому он не в состоянии оказать крестьянам
какой-либо защиты. Тогда Бабаев возвратился домой, но уже тайно, ибо,
отлучившись без позволения, он считался в бегах. За время отсутствия Бабаева произошли
следующие события. Когда Бабаев отправлялся в Петербург, его провожал
лесом один из близких ему людей, крестьянин Сушилин. По обнаружении
бегства Бабаева на Сушилина пало подозрение в содействии к побегу,
вследствие чего он сам вынужден был бежать и скрывался целое лето в
лесу; за это Ханыковы приказали дом Сушилина разломать, так что жена с
малолетними детьми все лето должна была жить под открытым небом. Между
тем бегство Бабаева должно было весьма озабочивать Ханыковых, они
обратились к содействию земского суда; приехал заседатель, и началось
исследование. Допросили жену Бабаева -- где ее муж? А так как она не
могла дать по этому приедмету никакого определенного ответа, то... ее
вывели во двор, раздели, положили на снег и наказали розгами. Затем
приступили к допросу брата Бабаева, Василия. Тот отвечал, что Иван пошел
ходоком от мира к Гурьеву, за каковой ответ на него надели конские
ножные железы. Узнав обо всех этих обстоятельствах,
Иван Бабаев... отправился в Рязань, подал губернатору жалобу на жестокое
обращение Ханыковых, просил произвести по этому предмету
исследование... Когда Бабаев явился в деревню, Ханыковы решили его
заарестовать. Родственник их, Мясоедов, вооружившись ружьем, с борзыми
собаками, в сопровождении дворовых людей, явился к дому Бабаева,
который, встретив Мясоедова в сенях и узнав о цели его прихода, просил
обождать с арестом до прибытия из Рязани чиновника для производства
исследования, ибо ранее этого идти на господский двор он опасается.
Мясоедов, очевидно, не мог принять в резон этих объяснений, а так как он
с людьми своими находился в нетрезвом виде, то требования его приняли
буйный характер, вследствие чего Бабаев запер дверь, выскочил в окно на
двор и закричал: караул! Видя это, Мясоедов, чтобы не упустить Бабаева,
покушался прибегнуть к помощи ружья, но собравшийся на крик народ, дабы
не вышло уголовья, не допустил до этого и выпроводил нападавших со
двора... Ханыковы прибегли к помощи полиции...
Исправник прямо отправился ко двору Бабаева и поставил вокруг дома
караул. Исправник начал говорить собравшимся речь о подчинении крстьян
своим господам... Поднялся шум, исправник приказал разогнать народ,
толпа загалдела... ударили в набатный колокол, и на место происшествия
со всего села повалил народ... Положение становилсь серьезным.
Исправник, "принимая меры к спасению жизни", бросившись в свой экипаж,
приказал кучеру своему ехать на бунтующих. Но этот натиск оказался
бесполезным, толпа выдержала его, лошадей остановили... Народ бросился
на сидевших в экипаже исправника и Мясоедова... тогда уже, видя, что
совсем приходится плохо, начальство обратилось в бегство... крестьяне
начали их останавливать, за уезжающими погнались верхом, с криком,
бросая в них тем, что было под рукою... В конце концов бежавшим удалось
спастись от дальнейших неприятностей благодаря лишь резвости их коней... Бабаев в ту же ночь отправился в Рязань с
жалобою и, узнав, что командирован для производства исследования
чиновник Галахов, возвратился в деревню для допроса. С прибытием
Галахова беспорядки прекратились... Не говоря уже о том, что Галахов
остановился в доме помещиков, -- личные его отношения к ним были слишком
близки. Он вступил с ними в какую-то коммерческую сделку относительно
леса, сообщал сведения о ходе следствия и показания крепостных людей,
давал советы. Вследствие этого Ханыковы имели возможность принимать свои
меры карательные. Несколько крестьян за показание против помещиков, на
виду у Галахова, были кованы в железы, некоторые были наказаны розгами,
так что возвратившиеся к следствию беглецы, видя такой оборот дела,
вынуждены были снова бежать, а Бабаев отправился в Рязань и подал на
действия Галахова жалобу, вследствие чего последний был отозван и дело
передано новому следователю Иванову. Иванов производил следствие уже о
действиях Галахова, и несмотря на то, что неправильность их была вполне
установлена, результаты следствия Галахова послужили основанием для
суждения о поведении Ханыковых. И в этом деле, как и в других,
начальство и помещики своего достигли, оказались виновными и понесли
наказание только одни крестьяне..." Хотя поводом для неповиновения часто
бывало насилие со стороны помещика, все же крестьянские восстания
происходили вне зависимости от характера владельца, в имениях жестоких и
"добрых" господ, потому что целью крепостных людей было добиться полной
свободы для себя и своих детей, и никакие средства, применяемые
полицией, не могли остановить этого стремления. В 1850 году в имении Афанасьева
крестьяне в ожидании "воли" перестали исполнять барские повинности.
Когда помещик с исправником и уездным предводителем дворянства приехал в
усадьбу навести порядок, крестьяне, не желая открытого столкновения,
разбежались по округе или разошлись и спрятались в своих домах. По
сообщению чиновника, занимавшегося расследованием этого дела, несколько
крестьян были найдены в сарае на заднем дворе. При расспросе они
сказали, что прячутся от человека, "называющего себя будто бы помещиком
их, но они ему не принадлежат, за помещика не почитают и повиноваться не
будут". В 1849 году возмутились крестьяне
помещика Иванова из деревни Снохиной Касимовского уезда Рязанской
губернии. Возмущение было вызвано грабительской суммой оброка, в
несколько раз превосходящего средние величины по уезду и губернии, и
жестокие телесные наказания. Кроме того, Иванов, злоупотребляя спиртным и
пользуясь отлучками из деревни мужчин, зарабатывавших назначенный им
огромный оброк, склонял к сожительству крестьянских жен и девок.
Несколько снохинских крестьян, плотничая в Москве, повстречали случайно
карету императора Николая, оказавшегося тогда в первопрестольной, и
сумели подать ему жалобу на своего помещика, хотя это и было строжайше
запрещено законодательством самого Николая Павловича. Вернувшись домой,
рассказали односельчанам о своем успехе и стали ждать справедливого
царского решения. А до тех пор самостоятельно сменили бурмистра и
организовали в деревне свое управление. Когда помещик Иванов потребовал к
себе зачинщиков мятежа, они просили передать ему, "что знать его не
хотят", а управляющего, попытавшегося прикрикнуть на крестьянский мир,
прогнали, говоря ему: "убирайся отсюда пока цел, а то мы тебе бока
отобьем". В деревню приехали исправник, становой пристав и уездный
предводитель дворянства в сопровождении полиции, но собравшиеся вместе
крестьяне на их внушения о необходимости подчиниться помещику и
выплачивать оброк ответили, что ждут решения из Петербурга и до тех пор
никаких работ на барина производить не будут. Полицейские захватили из
толпы несколько человек и повезли с собой в город для наказания, причем
остальные крестьяне кричали: "сажай нас всех"! Но никакого насилия или
сопротивления власти не оказали, только всей деревней отправились в
город следом за своими захваченными односельчанами. Там арестованных
высекли розгами и всех вместе отправили обратно. Снова приехали
чиновники и убеждали крестьян подчиниться, но также безрезультатно.
Когда полицейские попытались схватить еще несколько человек из толпы,
крестьяне уже не позволили этого, схваченных отбили и прогнали
официальных лиц из деревни. Так продолжалось в течение долгого времени.
Крестьяне не желали подчиниться ненавистному господину, отговаривались
тем, что ждут решения из Петербурга, заявляли, что местным властям не
верят, что пойдут все к царю, "чтобы был им один конец". Одновременно с
этим стали развозить свое имущество по другим деревням, по знакомым и
родным, никаких работ не выполняли, и скоро все хозяйство пришло в
полное запустение. Наконец прибыла военная команда, кого смогли поймать
-- выпороли, избили, но подписки о повиновении помещику от крестьян так и
не добились. Насколько крепка была решимость
снохинских жителей отстаивать свою свободу, становится ясно из того, что
они в течение следующего года почти все разбежались из своей деревни,
так что к 1851 году в имении Иванова из 189 "душ" осталось только 20... Уверенность в скором освобождении была
удивительно твердой и не угасала в течение всей эпохи крепостничества. Агенты правительства отмечали неуклонный рост вольнолюбивых настроений,
сообщая в секретных отчетах, что повсеместно "поводом неповиновения
помещичьих крестьян является... ложное понятие о правах их на свободу". Граф Бенкендорф писал императору
Николаю Павловичу, что крестьяне "ждут своего освободителя, как евреи
своего мессию... В начале каждого нового царствования мы видим бунты,
потому что народные страсти не довольствуются желаниями и надеждами...". Крестьяне так никогда и не согласились с
той ролью, которую упорно навязывала им государственная власть --
одушевленной собственности помещиков, причем на вечные времена. Они не
только не мирились с этим положением, но и не верили до конца в его
законность, искренне считая его недоразумением, случайностью, которую
необходимо как можно скорее исправить. Но правительство ничего не делало
для исправления несправедливости, и наоборот, почти до самого дня
отмены крепостного права всеми средствами официальной пропаганды
утверждало мысль о его незыблемости и даже святости. Усилия не достигали
цели, потому что в эту ложь не верил никто -- ни крепостное
крестьянство, ни сама власть.
10 
К середине XIX столетия страна устала от
рабства. Значительно упала рождаемость в семьях крепостных крестьян, и
за четверть века, прошедшую со времени 8-й ревизии, к 1857 году число
закрепощенного населения сократилось на 10 % и продолжало уменьшаться.
Крепостное хозяйство приходило в упадок. Помещики пытались восполнить
свои потери усилением крестьянских повинностей, ужесточением барщины и
увеличением суммы оброка, но эти меры только ускоряли окончательное
разорение и мужиков и землевладельцев. Усадьбы скудели, дробились или
вовсе теряли своих хозяев -- доля мелкопоместных и беспоместных дворян
постоянно росла, ко времени крестьянской реформы составляя уже более
половины от общей численности сословия. Хотя было очевидно, что сохранение
прежних порядков может привести к полному краху всего режима и
государственного строя, поместное дворянство отчаянно цеплялось за
крепостное право, не желая никаких перемен. Вместе с тем тяготы,
понесенные в Крымскую войну, экономический упадок и поражение в войне
вызвали народное недовольство и резкое усиление крестьянских восстаний.
Правительство опасалось потерять контроль над положением в стране, но и
предпринимать что-нибудь решительное боялись. Наконец новый император
Александр II, после долгих колебаний, объяснявшихся в том числе и его
личными убеждениями будущий царь-освободитель еще в эпоху правления его
отца, Николая I, принадлежал к придворной партии защитников
крепостничества и отличался своими реакционными заявлениями), все же
приказал начать подготовку к освобождению крестьян. Вынужденная обстоятельствами и
проведенная фактически вопреки воле самих реформаторов крестьянская
"реформа" содержала целый ряд постановлений, ущемлявших права бывших
крепостных людей и даже ухудшавших их положение, и была направлена в
первую очередь на защиту интересов дворянства. Крестьяне были наделены
земельными участками, за которые их обязали выплачивать выкупные
платежи, порой в несколько раз превышавшие рыночную стоимость земли,
причем от самого выкупа они не имели права отказаться. Они были лишены
свободы передвижения, еще много лет им не выдавали на руки паспорта. В
хозяйственном смысле бывшие помещичьи люди оказались закрепощены снова,
только на этот раз -- общиной, которая была наделена реформаторами
полномочиями, сравнимыми с правами помещика, что затормозило развитие
индивидуального хозяйства. "Освобожденные" крестьяне в результате
реформы не только были ограблены, но по-прежнему не имели возможности по
своей воле просто сменить место жительства. Их стремление к личной и
хозяйственной независимости осталось нереализованным, но зато телесные
наказания в Российской империи сохранялись исключительно для каторжников
и бывших крепостных крестьян почти вплоть до начала первой русской
революции 1905 года. Власть и высшее сословие так и не смогли
избавиться от стереотипов, воспитанных в период господства крепостного
права. Пренебрежение к народу и одновременно опасение перед ним
приводили правительство к принятию неверных решений, усиливавших
взаимное отчуждение, начавшееся со времени закрепощения крестьян и не
преодоленное до самого крушения Российской империи. Крепостные порядки
были основаны на подавлении любых проявлений свободы, их существование и
было возможно исключительно в условиях постоянного насилия. В целях
обеспечения безопасности установившегося строя крепостным рабам было
отказано не только в имущественных или социальных правах, но
преследовалась и сама народная культура. Боялись, что угнетенные люди
могут найти в ней силу и вдохновение для борьбы за свободу, потому
непримиримо искореняли старинные традиции и обычаи. Современники
свидетельствуют о том, как запрещались в помещичьих усадьбах народные
праздники, песни, обряды. Характерно, что репрессии против староверов,
виновных только в том, что они не хотели изменить благочестию и заветам
первых русских святых, в это время приобретают непримиримый характер, а
уничтожение древлеправославия при императоре Николае становится одной из
главных задач внутренней политики. И это в то время, как в стране
беспрепятственно открывались храмы и молитвенные дома протестантов,
католиков, даже язычников. Это происходило потому, что любое сомнение в
каноничности официального "казенного православия", само право на
сомнение -- являлось крамольным проявлением независимости мнения, а,
значит, внутренней свободы в человеке, недопустимой и смертельно опасной
для существования всего крепостнического режима. Важной особенностью крепостного права в
России является то, что оно представляет собой систему не столько
сословного, сколько государственного угнетения народа, когда поместное
душевладельческое дворянство выполняло роль не феодального господина, а
полицейского надзирателя, которому за службу интересам правительства
были переданы значительные полномочия в распоряжении порабощенными
людьми. Но в условиях существования крепостных порядков и господа и рабы
оказались в равной степени заложниками жестокого и бессмысленного
социального эксперимента, роковым образом повлиявшего на развитие
росийской государственности. Попытки оправдать существование
крепостного права экономической необходимостью еще менее убедительны,
чем доказательства его "патриархальности". Условия, при которых
землевладельцы привыкли повышать урожайность своих полей исключительно
посредством приказаний, подкрепленных розгами, а земледельцы были лишены
всякой заинтересованности в результатах своего труда и работали из
опасения физической расправы, губили умение и охоту трудиться на земле.
Несмотря на многочисленные попытки правительства поддержать помещичьи
хозяйства, только ничтожное число из них смогло выжить в новых условиях.
Поместное дворянство, лишившись бесплатной рабочей силы, убедительно
продемонстрировало свою деловую беспомощность. Российская экономика в
целом, основу которой еще во второй половине XIX века составлял рабский
труд, находилась в кризисе. При этом нравственный вред от долгого
существования крепостного права оказывается еще значительнее. Его
мрачные будни, насыщенные жестокими наказаниями и пытками, показали со
всей очевидностью, что наделение человека неограниченной властью над
себе подобными становится непосильным испытанием, выявили крайний
недостаток у него нравственных качеств и душевных сил выдерживать такое
испытание. Но самым печальным последствием разделения высшего сословия и
народа на классы господ и рабов было то, что оно привело к
неустранимому духовному разъединению между ними. Народ и так называемый
образованный слой, в первую очередь дворянство, на самом деле
представляли собой две разные России, настолько отличные друг от друга,
что у них не могло быть и не было ни единых интересов, ни единого
будущего. Крепостные порядки были введены
искусственно, явились следствием государственного произвола, и вся
последующая эпоха отмечена торжеством уже частного произвола над
юридическими и моральными основами. Закон почти всегда отступал перед
деспотической волей того, кто обладал властью и деньгами. Причем
глубоким заблуждением будет представлять себе, что подобное положение
вещей лежало в русле традиционного развития страны. Совершенно наоборот
-- оно являлось серьезным шагом назад в формировании норм русского
права, существовавших до имперского "просвещенного" века, было
свидетельством несомненной социальной и культурной деградации
государственности. Неразрывно связанное со всей историей
России периода империи, крепостное право оказало значительное влияние и
на позднейшие эпохи, вплоть до современности. Между тем в обществе до
сих пор не только не появилось внятной нравственной оценки этого
явления, но и отсутствуют фактические знания о нем. Традиция избегать
обсуждения тем, связанных с крепостничеством, а если это не удается, то
замалчивать или уводить в тень наиболее острые факты, свидетельствующие о
народном рабстве, берет свое начало со времен господства императорской
цензуры и успешно продолжается до наших дней. Правда о крепостном праве,
обстоятельствах его происхождения, причинах долгого существования и
последствиях этого способна привести к переоценке многих исторических
событий и целых периодов, и потому немало усилий прилагалось и
прилагается к тому, чтобы лишить проблему крепостничества ее настоящего
значения. Но без объективного представления о том, чем же было
крепостное право в действительности, мы не сможем ничего понять в нашем
прошлом.
11 
Иллюстрации
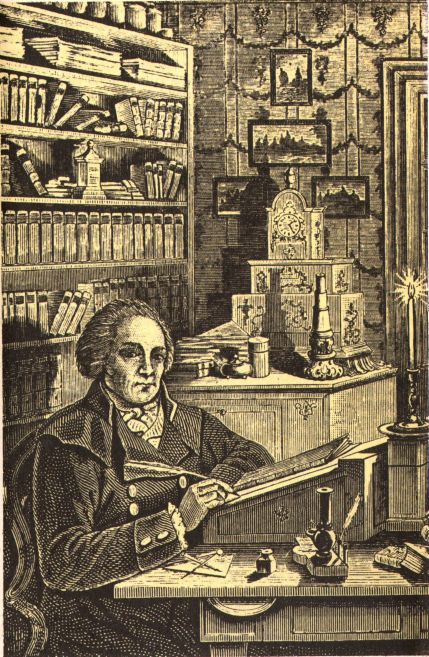
А.Т. Болотов в своем рабочем кабинете. Автопортрет

Отдых помещика. Художник К.А. Трутовский

Русская помещица. Художник Ф.Лакруа

А.Н. Радищев. Неизвестный художник.

Утро помещицы. Художник А.Г.Венецианов

Случай на охоте. Художник Н.Е.Сверчков

Помещица в пути. Художник Н.Е.Сверчков

Поздравление молодых в доме помещика. Художник Г.Г. Мясоедов

Торг. Сцена из крепостного быта. Художник Н.В. Неврев

Наказание кнутом. Гравюра XVIII века.

Проводы новобранца. Художник И.Е. Репин

Возвращение солдата. Художник А.Г. Венецианов

Крестьянка с васильками. Художник А.Г. Венецианов

В. К. Третьяковский. Неизвестный художник.
А.И. Суворов Гравюра XVIII в.

А.С. Пушкин. Художник О.А. Кипренский.
И.С. Тургенев. Художник И.Е. Репин.



Крестьянские дети в поле. Художник А.Г. Венецианов

Кормилица с ребенком. Художник А.Г. Венецианов

Эскиз женского костюма для крепостного театра графа Н.П. Шереметева. Художник М. Кирцингер

Эскиз мужского костюма для крепостного театра графа Н.П. Шереметева. Художник М. Кирцингер

Портрет П.И. Шереметевой. Художник Н.И. Аргунов

Портрет графа Н.П. Шереметева. Художник Н.И. Аргунов

Вид усадьбы Останкино. Художник Н.И. Подключников

Чтение манифеста об отмене крепостного права. 1861 год. Художник Б.М. Кустодиев
12 
Мундшенк -- придворный служитель, ведающий напитками.
"Кошка" -- многохвостая плеть из смоленой пеньки или сыромятных ремней.
Десятина -- 1,0925 га.
Опекунский совет -- основанное в 1763 г. государственное учреждение, ведавшее делами
некоторых организаций, в том числе Ссудной кассы, из которой выдавались
денежные средства под залог недвижимости.
Таковым урядникам -- то есть крестьянам, жившим согласно установленному порядку.
Т.е. искажает, лжет.
Казненных.
Жуково -- усадьба Д. Якушкина в Смоленской губернии.
Водовозова Е.Н. 1844-1923-- писательница, мемуаристка. Автор книги воспоминаний "На заре жизни".
Сабанеева Е.А. 1829-1889-- автор мемуаров "Воспоминания о былом".
Петровские указы запрещали вступление в брак для неграмотных дворян.
Т.П. Пассек 1810-1889-- писательница, тетка А.И. Герцена. Автор биографических записок "Из дальних лет".
В действительности это были длинношерстные кролики.
Панаева А.Я. 1820-1893-- русская писательница.
На заседаниях Уложенной комиссии депутат
от эстляндского дворянства Ренненкампф настаивал на праве дворян
отпускать крепостных на волю не поодиночке, но целыми деревнями и даже,
если на то будет желание помещика -- всех принадлежащих ему крестьян.
Причем Ренненкампф откровенно заявлял, что исходит не из интересов
крестьян, которые его совершенно не заботят, а из убежденности, что
только так будет достигнута наибольшая полнота владельческих прав и
полномочий.
Фонвизин М.А. 1787-1854-- декабрист, автор публицистических работ на социально-политические темы.
Имеется ввиду молоток аукционера.
Их высекли кнутом: девушкам дали по 25
ударов, кучеру -- 35, остальным по 45 ударов. Мужчин заклеймили, вырвали
ноздри и всех сослали на каторгу в Нерчинск. Кроме того, плетьми были
наказаны несколько слуг, которых обвинили в недонесении о готовящемся
преступлении, и среди них ту служанку, которая первая подняла тревогу и
тем самым, собственно, спасла жизнь госпоже.
Когда императору Александру доложили об
этом случае, он распорядился предать Корнилова суду, поскольку он
"оказывается виновным в том, что любил слушать и рассказывать пустые и
глупые новости, говорил слова непристойные и дерзкие, был излишне
любопытен, хотел знать, что пишут в газетах"...
13 
Комментарии к книге на сайте http://samlib.ru/comment/a/ali_s/rabstwo?&COOK_CHECK=1.
20. Сварт 2012/08/23 10:18
[ответить]
Поведение "хворян" - как карателей СС.
Перевешали и перестреляли эту зажравшуюся сволочь - и правильно сделали.
19. *Али Шер (chinaairboy@yahoo.com) 2012/07/22 00:25
[ответить]
> > 18.Алекс
>> > 17.Али Шер
>>> > 16.ДСК
Мдя....! Алексу респектище за отличное знание малоизвестных фактов из Истории древнего "демократического" Рима.
Весьма интересно!
18. Алекс 2011/12/27 22:09
[ответить]
> > 17.Али Шер
>> > 16.ДСК
>>> > 15.Бюргерсон Свен Нильсович
>>>Прочитал. Жесть.
>>>Непонятно, как только люди терпели такую хрень, страна победившего мазохизма, блин.
>>
>>Рабы Рима терпели больше. И ничего рабы - они и есть рабы.
>
>У древних римлян, в рабах были люди чуждых наций.
>А вот расейское рабовладение, в основном базировалось на
собственном народе..мдя. Гнобить собственный народ вплоть до геноцида,
исключительно русская ментальность, и тоже часть -"великой" русской
культуры.
Я бы не стал утверждать о русской исключительности. Еще греки имели охлос, состоящий из греков.
Помнится меня в детстве сильно озадачило, когда прочитал о возращении
Одиссея: "Избиение женихов продолжалось, и Афина, приняв вид ласточки*,
сидела на балке под потолком и поглядывала вниз до тех пор, пока не были
перебиты все женихи и их сторонники, кроме глашатая Медона и "славного
песнями" Фемия. Одиссей пощадил их потому, что они сами не причинили ему
никакого вреда; кроме того, они пользовались священной
неприкосновенностью. Одиссей перевел дух и спросил у Евриклеи, запершей
дворцовых женщин в их покоях, многие ли из них сохранили верность его
дому? Она ответила: "Двенадцать из них, поведеньем развратных, не только против меня, но и против царицы невежливы были". Всех виновных позвали и заставили убирать трупы и отмывать зал от крови губками и водой. Когда все было вымыто. Одиссей всех их повесил.
"Немного подергав ногами, все разом утихли". Евмей и Филойтий вывели во
двор Меланфия "и уши и нос отрубили ему... вырвали срам... руки и
ноги... отсекли" и бросили на съедение собакам" Да, имено так,
"невежливы были"...
Есть конечно и другие переводы, но "нет дыма без огня". Говорят, что
того же Цезаря спас Помпей, принеся вместо сердца Гая сердце свиньи,
купленой на базаре, когда Луций Корнелий Сулла захотел скормить столь
храброе сердце своим собакам.
Прикармливание своих сторонников, тоже изобретено не в России:
"Опытный в вопросах государственной внутренней политики, Сулла с
первых лет своей диктатуры начал заботиться о том, чтобы иметь как можно
больше своих приверженцев. Свыше 120 тысяч ветеранов сулланской армии,
сражавшихся под его командованием против понтийского царя и в
гражданской войне, получили большие земельные участки в Италии и стали владельцами поместий, в которых использовался труд рабов.
С этой целью диктатор проводил массовые конфискации земель...Командирам
своих легионов Луций Корнелий Сулла раздавал денежные суммы,
магистратуры и должности в сенате. Многие из них за короткий срок стали богачами."
Все это печально, но отнюдь не уникально. Кажется в 2002 или 2003 году
видел интевью с каким-то из африканских королей. Он с гордостью
рассказывал, что его предок продавал соплеменников европейцам, на чем и сделал свое состояние, а теперь их благодарные
потомки посещают историческую родину и дарят подарки ему, поскольку
такая политика по отношению к их предкам позволила им иметь
американское гражданство. Чудны дела твои ...
17. *Али Шер (chinaairboy@yahoo.com) 2012/01/20 20:15
[ответить]
> > 16.ДСК
>> > 15.Бюргерсон Свен Нильсович
>>Прочитал. Жесть.
>>Непонятно, как только люди терпели такую хрень, страна победившего мазохизма, блин.
>
>Рабы Рима терпели больше. И ничего рабы - они и есть рабы.
У древних римлян, в рабах были люди чуждых наций.
А вот расейское рабовладение, в основном базировалось на собственном
народе..мдя. Гнобить собственный народ вплоть до геноцида, исключительно
русская ментальность, и тоже часть -"великой" русской культуры.
16. ДСК 2011/11/27 02:16
[ответить]
> > 15.Бюргерсон Свен Нильсович
>Прочитал. Жесть.
>Непонятно, как только люди терпели такую хрень, страна победившего мазохизма, блин.
Рабы Рима терпели больше. И ничего рабы - они и есть рабы. Максимум
что могут - это устроить беспощадный бунт. Что и сделали в 1917-м. Но
как и предсказывал Пушкин - не только беспощадный, но и бесполезный.
С другой стороны крах династии Романовых и всего имущего слоя - это
некоторое воздаяние за годы КП. Что также весьма справедливо.
15. Бюргерсон Свен Нильсович (slava220272@mail.ru) 2011/11/27 02:09
[ответить]
Прочитал. Жесть.
Непонятно, как только люди терпели такую хрень, страна победившего мазохизма, блин.
14.Удалено владельцем раздела. 2011/11/26 00:32
13. Вилкат Артур (aras.w@gmx.de) 2011/11/25 23:46
[ответить]
К размышлению:(
В Беларусь возвращается крепостное право?
Читать полностью: http://naviny.by/rubrics/society/2011/11/25/ic_articles_116_175956/
12. Малышев Александр 2011/11/25 23:34
[ответить]
> > 11.Попов А.О.
>> > 10.Малышев Александр
>Тишайший сделал крестьян крепостными.
???
Этапы сложного процесса закабаления прошли мимо вашего внимания?
>Петр их прикрепил к помещику.
Нэ так все было, савсэм не так.
Посессионные крестьяне, например.
Прикреплялись к месту, а не владельцу.
Петр действительно продолжил дело отца... став брать налоги с
холопов... но одновременно, он открыл форточку в другую сторону.
Крепостной мог пойти в солдаты. Приписаться к городу.
11. Попов А.О. (aopopov@mail.ru) 2011/11/25 23:09
[ответить]
> > 10.Малышев Александр
Тишайший сделал крестьян крепостными.
Петр сделал крепостных рабами.Остальное - вензеля. К земле крестьян прикрепил Тишайший. Петр их прикрепил к помещику.
стр. 2
10. Малышев Александр 2011/11/25 13:58
[ответить]
> > 3.Попов А.О.
>> > 1.Али Шер
>Это делали не русские с русскими. Это делали с русскими российские европейцы.
Явление несколько сложнее, чем кажется. Заикнись, что лучшие
представители русской элиты (например - декабристы) пытались бороться с
КП или хотя бы его ограничить... тут же начнется визг про "агентов
Запада".
)))
>И начал это первый российский европеец - Петр Алексеевич Романов.
Ну как всегда.
*пичалька*
Вика
Кратко хронологию закрепощения крестьян в России можно представить так:
1497 год - Введение ограничения права перехода от одного помещика к другому - Юрьев день.
1581 год - Отмена Юрьева дня - 'заповедные лета'.
1597 год - Право помещика на розыск беглого крестьянина в течение 5 лет и на его возвращение владельцу - 'урочные лета'.
1607 год - Срок сыска беглых крестьян увеличен до 15 лет.
1649 год - Соборное Уложение отменило урочные лета, закрепив таким образом бессрочный сыск беглых крестьян.
1718-1724 гг. - податная реформа, окончательно прикрепившая крестьян к земле.
1747 год - помещику предоставлялось право продавать своих крепостных в рекруты любому лицу.
1760 год - помещик получил право ссылать крестьян в Сибирь.
1765 год - помещик получил право ссылать крестьян не только в Сибирь, но и на каторжные работы.
1767 год - крестьянам было строго запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих помещиков лично императору.
1783 год - распространение крепостного права на Левобережную Украину.
(В ()- от себя. Де-факто, еще папа Петра, Алексей Михалыч поставил
знак = между зависимыми крестьянами и холопами... но претензий к нему со
стороны патриотов нетути. Почему-то).
Институт КП вполне так формировался до Петра и прожил 150 лет после...
Заодно, чтобы два раза не ходить - гляньте даты отмены КП в других странах...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D...
19 век стал временем, когда КП исчерпало себя, факт. Русские в этом
плане продержались дольше (что плохо!), но в целом в рамках мейнстрима.
9. *Али Шер (chinaairboy@yahoo.com) 2011/11/29 12:14
[ответить]
> > 8.Попов А.О.
>> > 7.Али Шер
> По этой теме.Актуальный вопрос. Можно ли считать русскими подрастающее поколение ?
Нет.
8. Попов А.О. (aopopov@mail.ru) 2011/11/25 01:08
[ответить]
> > 7.Али Шер
По этой теме.Актуальный вопрос. Можно ли считать русскими подрастающее поколение ?
7. Али Шер (chinaairboy@yahoo.com) 2011/11/27 13:27
[ответить]
> > 6.Попов А.О.
>Территориально это по всей территории России. Главный показатель - язык на котором они говорили.
Уточнение понял.
6. Попов А.О. (aopopov@bk.ru) 2011/11/24 20:21
[ответить]
> > 4.Али Шер
>> > 3.Попов А.О.
>>> > 1.Али Шер
>>Это делали не русские с русскими. Это делали с
русскими российские европейцы. И начал это первый российский европеец -
Петр Алексеевич Романов.
>
>Обозначение "российские европейцы" это весьма не понятно.
>Территориально это от Урала и на Запад?
Территориально
это по всей территории России. Главный показатель - язык на котором они
говорили.
5. *Пузин Леонид Иванович 2011/11/24 03:49
[ответить]
Здравствуйте, Борис.
Восхищён! Прочитал Вашу замечательную книгу на одном дыхании - чего со
мной не было уже лет двадцать. Вообще-то, я читал и Ключевского, и
Герцена, и Радищева, и Аксакова, и ряд других как исторических, так и
художественных произведений, и, казалось бы, Ваша книга не должна быть
для меня откровением, однако - была! Вы так умело отобрали фактический
материал, так блестяще его изложили, да к тому же написали своё
произведение таким замечательным языком, что я уже второй день "в плену"
Вашей книги! И, знаете, окончательно "сразил" меня один вроде бы не
слишком значительный эпизод: когда "тургеневские барышни", проливая
слёзы над участью героев "Хижины дяди Тома", совершенно искренне
считают, что русскими людьми торговать можно, а вот американскими
неграми - нельзя. Какая поразительная способность к "двоемыслию"! Да,
эта способность - как средство психологической защиты - присущ
подавляющему большинству рода человеческого, но нам, кажется, особенно.
Увы, увы. Здесь, вероятно, истоки "русской трагедии"?.. Спасибо Вам за
прекрасную книгу! Как бы хотелось, чтобы подобных произведений писалось и
издавалось побольше - чтобы понимание истории формировалось у нас не
мифами, а связанными логикой фактами и реалиями прошлых времён - но,
боюсь, что воинствующее мракобесие наших властителей ещё долго будет
препятствовать демифологизации отечественной истории... Удачи! Радости!
Творчества!
С уважением, Леонид.
4. Али Шер (chinaairboy@yahoo.com) 2011/11/25 13:37
[ответить]
> > 3.Попов А.О.
>> > 1.Али Шер
>Это делали не русские с русскими. Это делали с русскими
российские европейцы. И начал это первый российский европеец - Петр
Алексеевич Романов.
Обозначение "российские европейцы" это весьма не понятно.
Территориально это от Урала и на Запад?
3. Попов А.О. (aopopov@mail.ru) 2011/11/23 12:01
[ответить]
> > 1.Али Шер
Это делали не русские с русскими. Это делали с русскими российские
европейцы. И начал это первый российский европеец - Петр Алексеевич
Романов.
2. Терехов Роман 2011/11/23 11:35
[ответить]
Просто мрак.
Хуже всего то, что мы вновь вернулись к подобному.
Владельцы российских компаний воспринимают своих сотрудников как
крепостных. У нас в отделе бытует термин "крепостной театр" - исполнение
нелепых прихотей высшего руководства, часто несвязанных с прямыми
служебными обязанностями.
Западные компании, ведущие бизнес в России, гораздо гуманнее относятся к людям, чем доморощенные бизнесменыбля.
Наступать на острозаточенные грабли - это судьба.
1. Али Шер (chinaairboy@yahoo.com) 2011/11/23 06:32
[ответить]
Никто наверное не задумывался, что каких то 150 лет назад в России
было узаконенно рабство. Русские всегда с большим вдохновением,
издевались, унижали и убивали таких же русских соплеменников. Наверняка
такой национальный геноцид, это одна их сторон, "загадочной русской
души".
О которой так любят упоминать расейские политики, церковники и
литераторы, ничтоже сумняшися гордо "филосовствуя" о вековой русской
культуре, забывая что данная "культура" породила рабство собственного
народа.
www.leotaxil.ru- Интернет библиотека во славу святого Таксиля - величайшего писателя всех времен и народов. Действительно образец литературы достойной подражания который вправе называться классикой! Не то что унылое г***о которое обычно называют классикой сейчас. А на самом деле просто
попса своего времени и евангелие для атеистов.